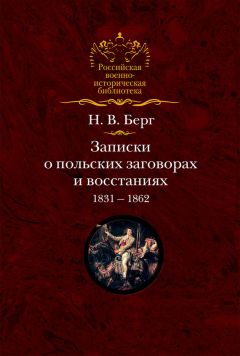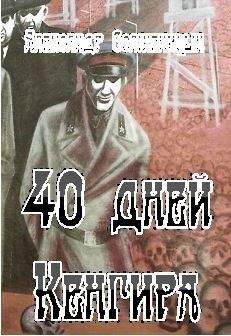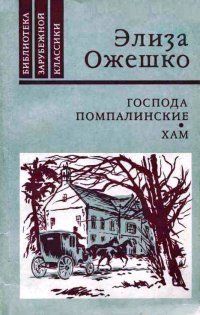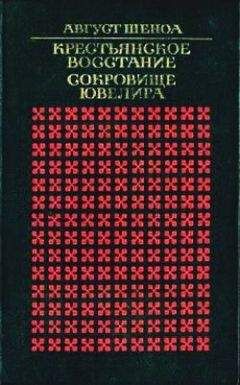Валерий Елманов - Царская невеста
Единственное, что его слегка огорчило, так это полное отсутствие послов. Такой вывод я сделал, поскольку он принялся энергично крутить головой, высматривая их в палате, но не нашел, после чего мрачно посмотрел на Долгорукого.
— Ведал? — раздраженно осведомился он.
Тот замялся. Сказать, что нет, — наживешь себе еще одного врага, но уже в лице князя Воротынского, который сам ему об этом говорил. К тому же Михаила Иванович — человек горячий и, услышав столь наглое вранье, может поступить самым непредсказуемым образом.
— Сказывал мне князь Воротынский, да грамоток-то я не видал у оного фрязина, — ляпнул Андрей Тимофеевич.
То ли он от злости думать разучился, то ли присутствие Иоанна Васильевича его так смутило, но ответ его получился не из лучших. Далеко не из лучших. Можно было и хуже, но и тут надо постараться.
«Эх ты, дурачина-простофиля!» — подумал я и вежливо произнес:
— Но и я, светлейший государь, его грамоток не видывал, однако поверил князю Воротынскому и в своей челобитной про оного человека гадать не стал — он на самом деле то ли смерд немытый, то ли гость торговый, то ли иной кто из подлых, а отписал, что он князь.
Ой как хорошо получилось. И не оскорбил — если сказанные слова брать буквально, и в то же время унизил — если судить по духу. Словом, не придерешься, а слушать кой-кому неприятно. Долгорукий чуть не на дыбки взвился:
— Слышишь, царь-батюшка, поносные речи, кои его поганый язык речет?! Нешто можно мне их переносить?! То не мне — всему роду Долгоруких в обиду.
— Гм-гм, — покрякал Иоанн. — Да он тебе покамест ничего и не сказал. — И лукаво покосился на меня.
Хороший это был взгляд. Одобрительный. Значит, с чувством юмора у государя не так плохо, как я подумал после нашей с ним встречи под Серпуховом. И еще одно я понял — царь начинает склоняться в мою сторону, но даже если и нет, то нейтралитет и объективность он соблюдет, как пить дать соблюдет.
Потом я узнал, что было главной причиной его хорошего настроения. Оказывается, накануне его торжественного въезда в столицу Иоанна известили, что к нему едет ханский гонец Шигай. Памятуя о прошлогоднем унижении, царь решил не пускать его в Москву, а повелел задержать посланца Девлет-Гирея в сельце Лучинском и уже сейчас мстительно предвкушал, как он примет его, вволю отыгравшись за прошлый год[6].
Вот только зря я радовался раньше времени. По мере того как разбор наших жалоб продолжался, взгляды царя, которые он то и дело бросал в мою сторону, становились все более пытливыми. Иоанн явно силился вспомнить, где видел меня раньше, но пока что у него это не получалось, и потому он то и дело нервно ерзал на своем широком троне, будто у него зудело в одном месте.
Я и сам себя так веду, когда в голове что-то вертится, а на ум не идет. Но не подсказывать же ему, где именно мы повстречались и в каком качестве я выступал. Однако намекнуть требовалось, поскольку неизвестно, что именно он вспомнит в первую очередь, и если на мою беду это будет юродивый Мавродий по прозвищу Вещун, то плохи мои дела.
«Это и есть человечий детеныш? — спросила Мать Волчица. — Я их никогда не видала».
По счастью, Иоанн так и не сумел вытащить из своей памяти нужное и потому не мудрствуя лукаво обратился за помощью ко мне.
— А ведь мы с тобой видались уже, фрязин, — подозрительно протянул он и пытливо уставился на меня.
— Так оно и есть, государь, — охотно подтвердил я. — О прошлом лете, когда нас с князем Валашкой Волынским прислали к тебе упредить о беде неминучей. Под Серпуховом оно было.
И тут же отвесил восхищенный комплимент его цепкой памяти — мол, сам бы я так никогда и ни за что. Поскольку память на лица у меня и впрямь никудышная, говорил я искренно. С ним вообще надо было держаться очень искренне, держа в уме наставления Валерки: «Иоанн как баба — фальшь чует за версту, поэтому при встрече с ним либо вообще ничего не говори, либо отвечай со всей душой, мол, весь я тут, нараспашку, ничего от тебя не таю».
Помнится, тогда я возмущенно отмахивался. Дескать, на кой ляд мне этот Иоанн, ну его к лешему, но Валерка не отставал и продолжал вдалбливать то, о чем ему доводилось читать. Оказывается, и впрямь сгодилось. Это ж какая у нас с ним встреча? Аж третья по счету. Ну в точности по пословице: «Черта не зовут, да он сам тут как тут».
Вроде бы успокоился царь, хотя какой-то напряг все равно остался. Эдакая настороженность. И впрямь память у мужика о-го-го — позавидовать можно. Ну и ладно. Хорошо хоть ерзать перестал. Значит, успокоил я его. Теперь и самому можно дух перевести. Да к речам Андрея Тимофеевича не мешает прислушаться, а то нагородит старик с три короба.
И точно. Вовремя я ушки навострил. Врать Долгорукий уже не врал, во всяком случае, не столь нагло, но преувеличил изрядно. Пришлось поправлять, причем всякий раз я старался сделать это и вежливо, но в то же время с подковырочкой — пусть старый козел почешется, и с юморком — шутники всем нравятся, а царям особенно. Не зря они близ себя шутов да скоморохов держат.
Кстати, своего в отношении князя Воротынского Иоанн достиг. Ухитрился-таки поддеть Михайлу Ивановича и попрекнуть его за то, что он, дескать, столь долго про меня молчал. Вообще-то царь хотел сказать пожестче, но тут встрял я. Набравшись наглости, я заявил, уподобившись дьяку Афоньке из гайдаевской кинокомедии:
— Не вели казнить — вели миловать, надежа-государь, но то моя вина. Я князя упросил не сказывать обо мне ничего. Мыслил, что когда приду проситься к тебе на службу, то не просто так о себе поведаю, но и смогу изложить, сколь я блага твоей державе принес, сражаясь супротив твоих ворогов.
— И как? Возможешь ныне оное изложить? — осведомился Иоанн.
Ныне могу, да невместно мне за себя самого сказывать, — скромно заметил я. — Дозволь, царь-батюшка, о том тебе князь Михаила Иванович поведает, ибо ему со стороны виднее.
О том я в другой раз послушаю. — И многозначительно добавил: — Коль ты жив останешься, фрязин, потому как видоков у вас нет, послухов тоже, кто идущу одесную[7] — неведомо, а потому пущай вас господь на своем суде разбирает. Хотел было я жеребий промеж вас кинуть, но, коль ты сказываешь, что тож православный, стало быть, полю решать. А быть ему… — он чуть помешкал, что-то приказывая в уме, — в Луков день. Мыслю, как раз я вернусь, чего рассусоливать, — загадочно произнес он и вновь обратился к нам: — В канун Малой Пречистой[8] куда как славно биться. Кто одолел — тому на другой день и рождество, яко богородице нашей, и Поднесеньев день[9], потому как обидчик свою главу поднесет с повинной — тож угощенье из славных. Тебе, князь Андрей Тимофеевич, дозволяю из-за немалых лет замену выставить, но — чтоб чести фрязина не позорить — из княжеского роду. Есть ли таковые на примете?
— Есть, государь, — кивнул Долгорукий. — Князь Иван Иванович за отечество наше на смертный бой биться выйдет. — И глянул на меня вприщур.
Не понравился мне взгляд. Какой-то уж слишком торжествующий, словно Долгорукий уже праздновал победу. Не рано ли? Или он приготовил что-то еще?
— Тебе ж, князь Константин Юрьич, передавать честь в иные руки негоже, разве кому из родичей своих, коль сыщешь таковских, — прервал мои раздумья голос Иоанна. — Зато, яко ответ держащему, тебе оружие выбирать.
Сабля, государь, — вспомнил я поучения Воротынского.
Быть посему, — кивнул царь.
Накануне перед поединком, сразу после вечерней службы я заглянул к Ицхаку взять немного деньжат. Говорить о поединке ничего не стал — чего доброго, привяжется с перстнем. Вообще-то он его и так получит — Воротынского я уже предупредил, но ведь купец тогда станет болеть за моего противника, всей душой желая моей смерти, а мне этого почему-то не хотелось.
Деньги предназначались Андрюхе Апостолу и Тимохе. Неизвестно, как сложится дело, потому я и решил выделить им по полсотни. Еще по две сотни Ицхак отдаст им по моей записке, если что. Уверен, что отдаст. Узнав, что перстень достался ему, Ицхак скупиться не станет. Остальное серебро я распределил поровну на три части — Маше, Воротынскому и… Борису Годунову.
Попал я в Замоскворечье как нельзя кстати. Дело в том, что, пока мы долбили Девлет-Гирея, там приключилось несколько пожаров. Были они локальные и довольно-таки мелкие по своим размерам — уверен, что ни один летописец о них и не упомянет, но изба молодой семьи в одном из пожаров сгорела напрочь.
Набежавшие соседи успели вовремя погасить огонь, и в результате пострадало пять-шесть домов, однако вот уже несколько дней Апостол вместе с Глафирой ютились в сараюшке, который выделила им под временное жилье сердобольная бабка-травница. В огне погиб и весь нехитрый скарб Глафиры для выпекания пирогов. Вдобавок все те же соседи, особенно из числа погорельцев, не без оснований — первой-то полыхнула именно ее изба — винили в возникновении пожара Глафиру.