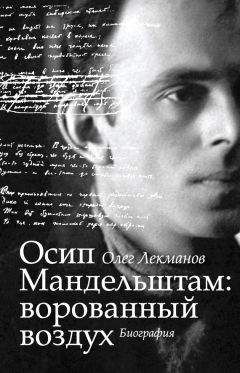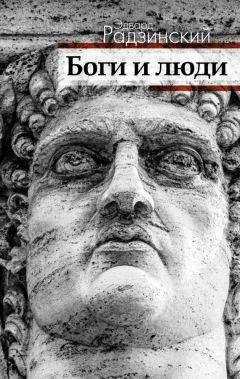Олег Радзинский - Агафонкин и Время
Мне ли не знать.
– Вот и посмо́трите с Алешей, – кивнул Мансур. Он затушил сигарету, потянулся. – Выясните, почему он не изменил ход истории.
– Выясним, – пообещал Агафонкин. Он снял омлет с огня и поставил дымящуюся сытным яичным духом сковородкуна деревянную подставку посреди стола. Положил рядом длинный нож. – Нужно понять, куда ты можешь нас добросить.
– Когда я вернулся обратно, – продолжал Мансур, – я ожидал, что вернусь в монгольско-тюркскую империю. А вернулся – все то же: 88-й год, перестройка, гласность. И никаких монголов. Ничего не сделал, поганец. Зачем я ему только юлу оставлял? Помогал из плена бежать?
– Почему в 1184-й? – спросил Агафонкин. Он разрезал толстый омлет на три части и, подцепив бо́льшую, положил на мою тарелку. Подвинул ко мне дощечку с хлебом. – Чем такое особенное время, Мансур?
– Переломный момент для Темуджина, – пояснил Мансур. – В том году кэрэитский вождь Тоорил-хан помог ему отвоевать похищенную меркитами жену, и в благодарность Темуджин принес присягу на верность. А Тоорил-хан, между прочим, был вассалом китайской династии Цзинь. Оттого Темуджин и взял курс на Китай как самую важную для монголов землю. Если попадете в 1184-й, сможете все изменить. Развернуть монгольскую империю на запад.
– Не обещаю, – вздохнул Агафонкин.
– Черт с ним, – сказал Мансур. – Выясните хотя бы что произошло. Почему он не попытался. Я этим вопросом двадцать пят лет мучаюсь. И юлу заберите: она мне досталась от мамы.
Он прожевал горячий кусок омлета, заел хлебом. Его жесткие темные волосы облепили большую голову, пытаясь закрыть большой влажный лоб. Ему было жарко. Он хотел водки.
– В 1184-й я вас не доброшу, – сказал Мансур. – Я сам там не был. Но знаю человека, который оказался в лагере Темуджина в ту пору. И к этому человеку могу вас добросить.
– Спасибо, – поблагодарил Агафонкин. – Если моя теория верна, мы используем твоего знакомого как Носителя: возьмем его Тропу и попадем в 1184-й. А там, – улыбнулся мне Агафонкин своей красивой улыбкой, – Иннокентий поможет мне уговорить Чингисхана отдать юлу.
– Он еще не Чингисхан, – возразил Мансур. – Он стал Чингисханом только в 1206-м, на Великом Курултае.
– Хорошо, – миролюбиво согласился Агафонкин. Он налил крепкого, почти черного чая из большого чайника с надколотым носиком, отпил. – Кстати, а как ты вернулся обратно? Без юлы?
– Я вызвал Карету, – сказал Мансур.
Агафонкин долго молчал, странно глядя на Мансура, словно не веря его словам. Тот доедал омлет, не обращая на нас внимания.
Агафонкин встал, вышел из кухни и вернулся с новой бутылкой водки. Мансур посмотрел на бутылку, на Агафонкина.
– Эх, евразийство, – вздохнул Мансур. – Пропадай мечта! Жаль, мне с вами нельзя.
– Почему? – не понял я. – Почему вы вообще, пока ждали другой истории двадцать пять лет, не вызвали Карету снова? Посмотреть, что произошло.
– Нельзя, – покачал головой Мансур. – Карета вызывается один раз.
* * *Алина Горелова надеялась на “Поцелуй Чаниты”. Ей не давали петь главные партии – из-за внешности. Она пела не хуже Шмыги, а диапазон у нее был даже шире. Правда, в отличие от Шмыги Алина не была женой главного режиссера Театра оперетты Владимира Аркадиевича Канделаки. Она вообще не была ничьей женой.
Пока Театр оперетты возглавлял Туманов, у Алины оставалась надежда вырваться на главные роли: Иосиф Михайлович ценил не звезд, а актерский ансамбль, а в ансамбле – голоса. Голос же у Алины был удивительный: она свободно покрывала диапазон от ля малой октавы до ля третьей октавы, что позволяло исполнять партии и для сопрано, и для меццо-сопрано.
Был и секрет, которым Алина не делилась ни с кем, только раз показала Кате Никольской: она, чуть посадив диафрагму, могла взять фа второй октавы и таким образом претендовать на легкие партии для контральто. Ниже – темнее – по регистру ни на первую, ни на малую октаву Алина спуститься не могла: оставалась в диапазоне меццо-сопрано и сопрано, но в этом диапазоне могла петь все. И уж, конечно, могла петь Чаниту или хотя бы Анжелу в глупой, искрящейся бездумным весельем, оперетте Милютина, которую Канделаки запустил в репетиции после возвращения театра с гастролей. А ей дали маленькую роль – нет, не роль – ролишку посудомойки Аниты. Там и петь нечего.
“Внешность, – думала Алина. – Внешность”. Понятно, что на Тоню в “Белой акации” Дунаевского она не могла претендовать: Шмыга с ее мягким лирическим сопрано и такой же мягкой европейской красотой подходила для роли идеально. Но Чана, Чана – экзотическая черноволосая красавица – то ли южная итальянка, то ли испанка, то ли вообще бразильянка, тут чуть подгримироваться, чуть округлить длинные узкие азиатские глаза – и вполне, вполне Алина Горелова могла ее спеть.
Хотя, признаться, итальянка и даже бразильянка – это не калмычка. Алина же была калмычка. Наполовину.
Ее мама Джиргал называла себя Женя и работала инструктором райкома комсомола в Москве. Мама Женя-Джиргал родилась на донском хуторе Мокрая Эльмута, откуда калмыков после Гражданской войны переселили в степи и полупустыни между Кумо-Манычской впадиной и Прикаспийской низменностью. Сюда, на озеро Маныч-Гудило, Алину каждое лето отправляли из пыльной жаркой Москвы к бабушке Кермен. Здесь, в окружавших озеро солончаковых лугах, по которым бродили тощие овцы, Алина выучилась говорить по-калмыцки. И петь.
Над озером Маныч-Гудило кружились бесконечные птицы. Бабушка Кермен научила Алину, кто из них краснозобая казарка, а кто колпица, но более других Алина полюбила кудрявых пеликанов. Светлые, с витками перьев на длинной шее, огромные птицы висели в темной воде, иногда ныряя острыми клювами за мелкой озерной рыбой, после бившейся у них в зобном мешке – еще живая, но уже ставшая пищей. Алина подолгу сидела на берегу среди высокого острого камыша, наблюдая за кудрявыми пеликанами, и все ждала, когда они, распахнув гигантские крылья, поднимутся в небо и улетят в Африку. Отчего в Африку? Она была уверена, что там их родина (и, кстати, ошибалась, поскольку их родиной являются теплые плавни Южной Месопотамии).
Ее любовь исключительно к пеликанам была до некоторой степени несправедлива: на озере Маныч-Гудило жило множество другой, не менее интересной птицы: гусь белолобый, чайка серебристая, голубок морской, а также шилоклювка, ходулочник, каравайка и, конечно же, малая белая цапля.
Ну как, скажите, не полюбить малую белую цаплю?
Сердце Алины, однако, оставалось верно кудрявым пеликанам. Женская привязанность – тайна, загадка. Даже в Москве Алина вспоминала своих любимцев. Ей казалось, что порой она видит их в московских парках, где светло-серые птицы прячутся от чужих глаз в мелких холодных прудах, притворившись камнями, застыв у коряг, спрятав длинные желтые клювы под косые крылья. Алина удивлялась и радовалась, что, кроме нее, пеликанов никто не видит. В жизни оказалось много необъяснимого. Кто бы, например, мог подумать, что когда-то она была бабочкой?
Придя домой от Кати Никольской, Алина долго лежала на кровати, глядя в потолок. Она вспоминала свои жизни и как бабочка, и как маленькая чернокожая Глэдис. Алина не могла решить, о какой из них хочется думать больше.
“Что сказала Синяя Птица? Есть другой мир, куда мне еще нельзя. А я хочу во все миры сразу, но нужно выбрать, выбрать”. Алина была уверена, что если выберет себе жизнь, сможет туда попасть. Она ругала себя, что не забрала у Кати юлу.
Алина встала с кровати и пошла на кухню – поставить чайник. В коридоре, как обычно, горел свет над столиком с телефоном, и соседка Черепанова, заслышав шаги, тут же высунула голову из двери своей комнаты – бывшего кабинета Алининого отца. Она хотела подслушать и подсмотреть, но было нечего. Черепанова оценила обстановку, спряталась обратно в комнату, оставив, однако, дверь приоткрытой.
А вдруг?
Общая кухня, которую Алина делила с тремя соседскими семьями, пахла чужой едой и мокрыми тряпками. Алина поискала спички и не нашла: спички либо кончились либо кто-то их взял. “Что мне спички? Я вообще бабочка”, – подумала Алина, но огонь от этой мысли не загорелся. Она открыла посудный ящик семьи Погудовых, взяла большой коробок с надписью “Довольно пьянства!” и зажгла конфорку. Поставила на плиту большой – много больше, чем нужно одинокой женщине – чайник и принялась ждать.
Чайник, набрав от пламени силу, пустился пыхтеть, клокотать, словно был болен опасным респираторным заболеванием, и его хрипы напомнили Алине, что она забыла заварку в комнате, где хранила ее с той поры, как на кухне начали пропадать чай, соль и сахар (Черепанова, не иначе: ни Погудовы, ни Хвостиковы не возьмут). Алина вздохнула, ругая себя за забывчивость, и пошла обратно.