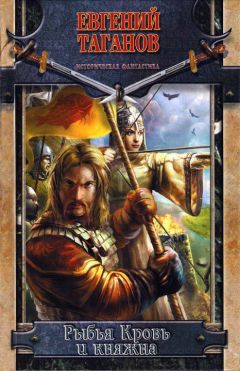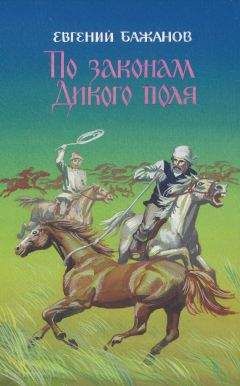Евгений Таганов - Рыбья кровь
Старейшины молчали, хорошо понимая важность своего ответа.
– Мы боимся, как бы не вышло так, что норки будут постоянно нас захватывать, а ты – освобождать, – высказал общее мнение самый старший из отцов города. – Для тебя это выйдет накладно, разве не так? У нас сейчас нет даже средств, чтобы заплатить тебе за освобождение.
– Год назад Липов едва набрал припасов на сорок моих воинов, сейчас в нем более четыреста мечей, и Липов от этого стал в десять раз богаче. Не будете рисковать – ничего никогда не получите. За освобождение заплатите весной, построите пять тридцативесельных ладей и вместе с ладьями норков отправите речной дорогой в Липов.
Сказав так, Дарник дал время старейшинам думать до утра, а сам отправился в селище. Там уже шло энергичное приготовление к похоронному ритуалу. Откуда-то взялась богатая женская одежда, новенькая прялка, резные чаши с зерном, медом и молоком, просторный гроб-домовина, рассчитанный на крупного мужчину. Всю ночь Дарник просидел у тела матери, привыкая к потере. Не один раз слезы накатывались ему на глаза, но потом высыхали – даже в малом не позволял он себе подчиниться своим чувствам.
Утром, щедро расплатившись со смердами, Рыбья Кровь со всем обозом выехал в Перегуд. За тяжелую бессонную ночь принял твердое решение: хоронить мать у Перегуда и владеть им, несмотря ни на что. К счастью, сопротивление старейшин преодолевать не пришлось, на его княжение они дали утвердительный ответ и для сожжения выделили лучшее место. Пока выкладывали сруб из сухих бревен и устанавливали на него сани с домовиной, съестными припасами и женскими хозяйственными принадлежностями, нужными Маланке в потустороннем мире, перегудский жрец оглашал округу бесконечными славословиями в ее честь. Дарник сам поднес пылающий факел к пучкам соломы, торчащим из сруба. Тризна сопровождалась жалобными песнями и завываниями местных плакальщиц. Присутствующие были довольны – похоронный обряд проходил на самом высоком уровне. Погребальный костер горел до вечера, наутро на сером пепелище стали выкладывать малый каменный курган, а вокруг него из жердей сооружать легкий забор, дабы ничто не мешало ветру покрыть трехсаженную горку плодородным слоем земли с семенами деревьев и кустов.
Молодость не может долго пребывать в печали, и скоро Дарник вернулся в свое привычное ровное настроение. Первую ночь в городе он пожелал провести именно в той горнице, где полтора года назад ему так хорошо спалось. Прежние две пожилые женщины были на месте и с готовностью согласились приготовить ему большую кадку с горячей водой, в которой он испытал тогда редкостное удовольствие. После ночевок на снегу это оказалось еще большим наслаждением. Умиротворенный, в чистом белье, он уже улегся на пышный пуховик, когда услышал за дверью резкий женский голос. Кто-то пререкался с его сторожами-арсами. Эта была та самая вдова, ночь с которой он выиграл в честном поединке. Тогда он не захотел воспользоваться наградой, теперь она пришла к нему во второй раз. Звали женщину Друей. Когда у мужчины и женщины есть общее, пусть даже небольшое прошлое, их отношения складываются совсем иначе, чем когда они все начинают с нуля. Так было и на сей раз. За простыми словами скрывалась некая гораздо более важная недосказанность.
– Узнаешь ли ты меня? – спросила Друя, когда они в горнице остались одни.
– Узнаю. А как тот молодец, что тогда был с тобой вместо меня? – поинтересовался он.
– Еще один раз приходил, а потом уехал из Перегуда.
– Ну а как с рождением богатыря?
– Не всегда получается так, как хочется, – застенчиво отвечала она. – Мне сказали, что у тебя четыре жены.
– Было пять, но одну пришлось казнить.
– И не жалко было ее, пятую?
– Жалко. Но чем выше любовь, тем серьезнее должно быть и наказание. Зато теперь про нее лет двадцать помнить будут.
Так они разговаривали, жадно поедая друг друга глазами.
– Ну, я пойду, тебе, наверно, отдохнуть хочется, – сказала она, наконец поднимаясь из-за стола.
– А как же рождение богатыря? – чуть волнуясь, что она в самом деле уйдет, напомнил он.
– Разве липовскому князю пристало теперь заниматься таким баловством?
– Липовскому князю пристало все, что ему хочется, – в обычном своем духе пошутил Рыбья Кровь.
Разумеется, Друя и не собиралась уходить, зато их непринужденный разговор придал всему последующему какую-то особую узнаваемость и нежность. Дарник был совершенно околдован этим нежданным подарком судьбы и даже подумал, что те пышные слова, которые встречались в любовных свитках, не совсем далеки от истины.
Впрочем, очарование ночным событием длилось ровно до середины следующего дня, до тех пор, пока он не начал вершить княжеский суд над десятком домовладельцев, которых народный сход обвинял в том, что они всячески услуживали злым пришельцам и доносили на своих соседей. Среди них был и отец Друи. Дарнику стало досадно, он понял, что2 именно послужило причиной ночного прихода молодой женщины.
За предательство этим, вчера еще достойным мужам Перегуда полагалось лишение имущества и изгнание из города. Князю оставалось только решить: когда и куда – сейчас, в зимний мороз, или позволить им дождаться весеннего тепла? Дарник назначил высылку через две недели, за это время изгои должны были подыскать себе место для временного постоя и перевезти туда домашний скарб.
– А они возьмут и через две недели подожгут собственные дома! – выкрикнул один из обвинителей. – И весь город еще спалят. Сейчас выселять надо, сейчас! И имущества никакого не позволять вывозить!
– Будет, как я сказал! – строго оборвал Дарник.
На том и порешили. Все дома изменников, к неудовольствию старейшин, поступали в распоряжение князя. В них тотчас стали вселяться десятские липовцев. Вечером Друя на коленях умоляла Дарника изменить приговор в отношении ее семьи: мол, ее теперь, как княжескую полюбовницу, никто в городе не посмеет обидеть или оскорбить.
– Я подумаю, – неопределенно пообещал он, хотя уже знал, как поступит с ее семьей.
Две недели на улаживание своих дел понадобились не только изгоям, но и князю. Прежде всего надо было привести в должное состояние новое крепостное войско. Для обороны города необходимы были двести гридей, а где их взять, если у самого их не больше сотни да еще полсотни необученных ополченцев? Ничего не оставалось, как в принудительном порядке набрать сотню гридей из числа горожан и окружающих селищ. Им Дарник придал десяток арсов и две ватаги гридей. Разбившись вместо четырех на три сторожевые смены, это войско приступило к несению крепостной службы. Рыбья Кровь почти не вмешивался, давая возможность остающимся полусотским самостоятельно приобрести нужные навыки. Сам же вплотную занялся городскими укреплениями. По его заказам перегудские оружейники изготовили двадцать камнеметов, размещенных затем по всей стене, и две больших пращницы – направленные на реку, они накрывали своими выстрелами полверсты водной глади. Из трех ворот велел пользоваться одними, и то лишь в дневное время. С наружной стороны наметил целый ряд препятствий, чтобы и конный, и пеший могли приблизиться к воротам, лишь сделав несколько крутых разворотов. Посланные на сто верст вверх по Танаису дозорные сообщили, что норки действительно ушли далеко на север, и можно было надеяться, что хотя бы до лета они не дадут о себе знать. Однако это нисколько не расхолодило князя, и меры предосторожности он не считал чрезмерными.
То, что не удавалось в Липове Фемелу – привить Дарнику княжеские замашки, здесь, в Перегуде, получилось само собой. Разница заключалась в его отношении к простым горожанам: в Липове он их уважал, в Перегуде же смотрел на них с легким презрением. Хотя если бы захотел как следует вдуматься, отличий нашел бы не так уж много: и там и там он спасал их от разбойничьего насилия, но в Липове смерды сразу стали на его сторону, а в Перегуде вяло ждали, когда он придет и освободит их. Да и в обыденной жизни они вели себя по-разному: липовчане много и плодотворно трудились, а перегудцы вроде делали все то же самое, но как-то вкривь и вкось. Выручал их лишь важный торговый путь, что проходил по Танаису и приносил много товаров и легких денег.
Заминки старейшин насчет себя Дарник не забыл, поэтому впредь разговаривал с ними уже не столь великодушно, чем прежде. Перегуд был отныне его собственностью, и в этом ни у кого не должно было оставаться сомнений. Поэтому, отринув стеснение, Рыбья Кровь властвовал в Перегуде сурово, не допуская никаких возражений. Назначил вместо совета старейшин своего посадника и только через него вел все переговоры. Не слушая жалоб на грабеж норков, велел собрать обычные подати для короякского князя, обложил городское торжище особой княжеской пошлиной, всех купцов и ремесленников разделил на старых и новых, с разными годовыми поборами, ограничил участки под новые городские и посадские дворища, ввел низкие цены на рабов, чтобы сделать торговлю ими менее выгодной. Его жесткость и требовательность привели к тому, что трех дней не прошло, как при его появлении перегудцы почтительно кланялись и снимали шапки, а распоряжения бросались выполнять с завидной прытью и рвением. Однако их безоговорочная покорность производила на Маланкиного сына тяжелое и неприятное впечатление – крайность в самоуничижении грозила обернуться крайностью бессмысленного бунта, а он терпеть не мог никакие крайности.