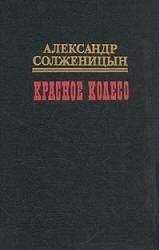Александр Солженицын - Красное колесо. Узел II Октябрь Шестнадцатого
– Вот, тринадцать лет по городам, а привыкнуть к городу не могу.
Правильно ли показывал первый взгляд, неправильно, но сердце Воротынцева всегда шло по нему. И сейчас, отстёгивая в передней оружие, зарадовался он, что можно со встречной открытостью, без чинов, без кривляний.
– Мы-то – в земле живём, над нами – всё топает. Обе верины руки подхватил Шингарёв размашистей, чем это делают:
– Ну как хорошо! Как хорошо, что привели.
С первого вида и гласа вступал в душу этот человек.
Квартира вся в глубину, там кто-то ходил, был, выглянула девочка из другой двери, но кабинет Андрея Ивановича – тут же, первый. Тем же широким движением хозяин распахнул, пригласил и Веру, но та:
– Спасибо, спасибо, я – к Евфросинье Максимовне.
Узкая комната, ещё суженная книжными полками с обеих сторон да стульями, однако не свободными: на каждом стопы журналов, брошюр, бумаг. Проваленный диван – и тот не весь свободен, и на нём стопа. К единственному окну в глубину удвинут письменный стол, а уж на нём – тот ужасный разброс и наброс, который только одним хозяином понимается как осмысленный порядок.
А уж хозяин, в костюме домашнем, не новом, держится ещё и проще своего пятого этажа: вот, председательствует в военно-морской комиссии Думы и важен ему всякий понимающий человек с фронта, чтобы перенять наблюдения и выводы: сам же за всеми делами, думскими, партийными, лекционными, много не выберешься в Действующую, в этом году и в Европу катались на два месяца парламентской делегацией, и там успевай понимать. Мотался и на Западный фронт, поглядеть, – но наездом, посторонними глазами – что увидишь? А заседая в Совещании по обороте или в думских комиссиях, сколько надо чужого опыта собрать, соединить, стянуть, чтоб уверенно опираться. И он старается чаще видеть армейцев, очень нужны свежие оценки.
Так сейчас – сразу и говорить?…
Да знаете, фронтовому офицеру только и мечта, чтоб тебя послушали, ведь колотишься – пожаловаться некому.
На продавленный диван усаживая, а себе подтягивая плетёный стул:
– Так вы в какой армии сейчас?
– В Девятой.
– У Лечицкого? Кажется, хороший генерал, да? Верно видит, молодец.
– Из лучших.
– Значит вы – с самого, самого левого фланга?
– Как шутили до этой осени: мы – “крайние левые”, левее всех социалистов. Того крайнего левого фланга, где был у нас бок защищён, а теперь румынами открылся. И потекло.
Вопрос – ответ, вопрос – ответ, – деловые, понимает, помнит. Да, да, с Румынией – всё самое горячее и непонятное. Как же Добруджу отдали? Как там Дунайский корпус? А что под Дорной-Ватрой? (И без карты всё представляет, молодец.) Почему же мы отступаем? А летние месяцы ваша Девятая ведь наступала, и удачно. Так – боевой дух сохраняется?
Вот ему что – боевой дух! Сейчас, сейчас, будем добираться, через румынские участки. Ждёт его узнать куда больше, чем он доведывается.
Но тут же и остановил Шингарёв – раз, и другой: дело в том, такая случайность, позвонил Павел Николаич, он тут, на Петербургской стороне, и собирается зайти, вот в течении часа…
– Павел Николаич? Простите, это…?
– Милюков. Такой случай жалко пропустить, ему тоже бы очень надо послушать! И Милий Измаилович придёт, Минервин. Вот мы бы все сразу толком вас и послушали.
Ах вот как, всё-таки затащила Верунька на сборище. Ну что ж, даже и забавно начинается Петербург. Даже и замечательно?
А пока – что? А пока Шингарёв, виноватый в задержке, и сам готов – отвечать, объяснять. Вот он весь, неукрывный, не похожий на думского лидера. Подстрижен, правда, как модно у общественных персон – бобрик, лишь чуть длинней. И на голове, в усах и в бородке уже непоправимо двинулся тёмный цвет в проседь. Но в рассеянном свете матового колпака настольной лампы – вот эта карточка на стене: в белой косоворотке навыпуск, с кроликом на коленях – молодой лохматый весёлый цыган, прицыганенная порода, как много у нас по прежней степной границе, – и спросить неловко, вдруг не попадёшь, и не удержаться:
– Вы?? Неужели?
И самому не верится? – где теперь эти буйные неулёжные чёрные волосы враспад, эти глаза горячие, бегучие, – улыбка! вскочить в секунду! – бежать, скакать, делать!
Двадцать дет назад, даже не земский, вольнопрактикующий врач за пятачок. Тех сельских участков, ему намежёванных, скудость, убогость, невежество – как же вспоминаются нежно:
– То корова “не пришлась по шерсти” домовому – значит, продавай. То от скотьего помора голые бабы идут вокруг деревни и пашут… А эта “народная медицина”? Трудные роды, так свешивают мать вниз головой с печи и – гонца в церковь за три версты: просить батюшку открыть царские врата, чтоб роженице легче. А детям – пригрызают грызь! А – умывают с уголька?
Он как будто жаловался на народ? Но – не с презреньем, а с печальным состраданьем.
– В Усманском уезде, где у меня хутор сейчас, – поразвитей, почище, и всегда были. А в Ново-Животинном, где мы эту статистику проводили, боюсь, что и сегодня… К земле прикованы как обречённые. Уже безземельны, безлошадны, нищи, двор не огорожен, хата убога, живут уже не от земли вовсе, отхожими промыслами, а всё равно: земля! Копаются в последнем клочке.
– А когда вы последний раз там были?
– Да уже семнадцать лет. Сейчас – везде лучше, да, и даже несравненно, деревня – другая, но ведь я же не врал: в 99-м году так было: что зимой не хватало кислой капусты! не сварить щей! Кто же смел так довести деревню, скажите!?
Его голос нутряной, забирающе-искренний, повлажнел.
– Ново-Животинное стоит над Доном. Вдоль берега – мощные слои известняка. Известняк – ничей, как говорится Божий, издавна его ломали на строительные работы. Так нашёлся сукин сын догадливый, свой же мужик, наплевал и попрал это народное представление – ничей. И отеческое начальство ему помогло: в Воронеже сунул взятки, кому надо, и все эти залежи получил в аренду. И никто уже больше не смел брать известняка, все подчинились, деться некуда. Вот так разлагается народная душа – и непоправимо от нас уходит. И как же можно с этим – на пять минут примириться и не бороться?
Даже не видя бы приветливого лица Шингарёва, только один его голос слыша, тембр удивительный, нельзя было к нему не расположиться: этот голос, ещё рождаясь, ещё по пути, как будто снимал с души всё тепло, не жалеючи, не оставляя в запас, – и выносил на собеседника:
– Раньше ломали камень вольно, везли в город, от себя продавали. Теперь стали получать у арендатора, сколько заплатит, лучшему работнику 30 копеек в день. Вкапывались узкими шахтами, душно, сыро, керосиновый ночник, согнутая поза. Крепленьем уже никто не занимался, лишь бы заработать, верхние слои обваливались, особенно весной. То про одного, то про другого: “задавлен горой”. Один молодой, кормилец семьи, не успел выскочить за товарищем – глыба в спину, паралич обеих ног, калека и хуже: отказал сфинктер прямой кишки, отходы не сдерживает. И вот лежит на соломе в тесной избе, без ропота, и родители, и жена тоже покорились: знать, Бог велел… Страстотерпец наш великий, безответный серый русский люд…
Пробрало Воротынцева – и тот сукин сын арендатор, и тот парень раздавленный… Верный человек Шингарёв – и понимает, что надо. Да, он и солдатское горе поймёт, ему – и не стыдно будет открыть такое, что вообще офицеру стыдно. Они друг друга поймут! Удачно попал.
– …Не перестанешь поражаться ему никогда. Но и надежды на него не удержишь: нет, сами они свою жизнь никогда не изменят. Вытащить их можем – только мы.
Каменоломня ли та. Дифтерит на грязной соломе. Или всё, что сгустилось в окопах за двадцать семь месяцев войны.
– …И как же пять минут жизни отдать – чему-нибудь другому?… Я пошёл в народ – лечить. Но, собственно, – и не лечить. Что ж прикладывать пластырь голодному и безграмотному? Нет, ты разгрузи его спину, ты просвети его нагнутую голову. С университетских лет меня и поразил этот разрыв: между торопливыми идеалами интеллигенции и покорной непросвещённостью масс. Разрыв – слишком опасный для страны, этак ей несдобровать.
– Сегодня он – не меньше, – предупредил Воротынцев, уже о своём.
– Конечно, и сегодня не меньше, в том и беда, – не понял Шингарёв. – Тем хуже. И значит, задача не изменилась с конца того века: всеми силами, как можно скорей, сближать верхи с низами. В этом – решение всех русских вопросов. А нам времени не дают. Тогда – война началась, потом революция, потом реакция, теперь – опять война, ничего мы не успеваем. Сближать – а как? Мне казалось, что естественней всего врачу: он в каждую хижину входит как свой, желанный.
Так и вязалось у Шингарёва в те годы: сперва – санитарные условия деревенской жизни, а их не понять без крестьянского бюджета, а дальше надо понять и бюджет земства. Сперва – устройство амбулаторий, школьных горячих завтраков, яслей-приютов на время страды, а там – печатные работы, публичные выступления, в 26 лет – уже гласный Тамбовского губернского земского собрания, и борьба против князя Челокаева, главы тамбовских консерваторов.