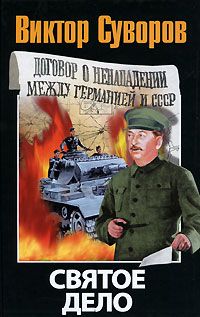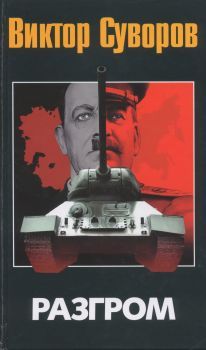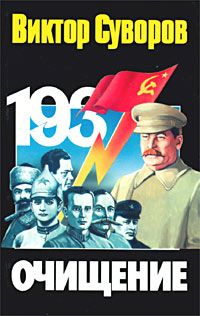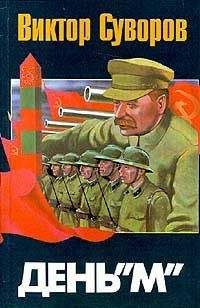Виктор Суворов - Святое дело
В случае необходимости пехоту можно было бы вооружить любыми танками, но германская промышленность выпускала танков мало, и танковые подразделения так никогда и не стали органической частью пехотных дивизий. Все, что выпускала германская промышленность, попадало в танковые дивизии, а пехоте ничего не доставалось.
Возражают: при необходимости германская пехотная дивизия могла быть усилена танками из состава танковых дивизий. Правильно. Но и советская стрелковая дивизия могла быть усилена танками.
Разница в том, что советская дивизия могла получить танки усиления в дополнение к собственным, а германская дивизия — и дополнение к нулю.
Разница была и в том, что в Красной Армии к началу Второй мировой войны существовали специальные танковые бригады прорыва. На их вооружении состояли Т-28 — танки качественного усиления пехоты и Т-35 — танки особого качественного усиления. В перспективе Т-28 и Т-35 должны были заменить на новейшие КВ-1 и КВ-2, которые были разработаны, освоены промышленностью и начали поступать в войска. Советскому командованию было чем усиливать стрелковые дивизии в случае необходимости. А в германской армии не было ни танков прорыва, ни специальных соединений, предназначенных для качественного усиления пехоты на главных направлениях.
Да, германская пехотная дивизия могла быть усилена танками. Но только теоретически.
6
А теперь, вооружившись пониманием того, что Т-26 — это танк стрелковых дивизий, попытаемся посмотреть на него с другой стороны и другими глазами. И тут все его видимые недостатки вдруг превращаются в достоинства.
Слабый двигатель? Правильно. Но можно его назвать и другим словом: экономичный. Представьте, что на фронте в две тысячи километров у вас на самых главных направлениях воюют мощные танковые формирования, но кроме них еще по всему фронту у вас 200 стрелковых дивизий, и в каждой из них — по собственному танковому батальону. Топлива на войне не хватает всегда. А тут, помимо мощных танковых соединений, приходится снабжать еще и 200 отдельных танковых батальонов стрелковых дивизий. Проблема не только в том, что топлива не хватает. Тут еще и проблема транспортировки. Как в 200 батальонов, разбросанных по огромному фронту, топливо доставить?
Потому в данном конкретном случае для данного танка маломощный двигатель был предпочтительнее сверхмощного, так как не прожорлив.
Но скорость-то малая! Правильно. Но куда спешить? Мы же в пехоте. Советская пехота, как и германская, передвигалась пешим порядком. Т-26, двигаясь даже не на максимальной, а на средней скорости, все равно обгонял пехоту. Так куда вам больше?
Теперь допустим, что дивизия находится в обороне. Ее фронт 20-30 км. Танковый батальон — в резерве, в тылу — в 5-7 км от фронта. По тревоге этот батальон мог в любой момент через несколько минут оказаться у переднего края, если его помощь требовалась прямо по центру боевого порядка. Но и до любого фланга тоже недалеко.
Так что скорости этому танку тоже хватало.
Милое дело — искать недостатки. У танка Т-26 кремлевские академики нашли их уйму.
А я, когда зубоскалы издеваются над советским пехотным танком Т-26, предлагаю: давайте сравним! Двигатель у советского танка слабенький? Скорость недостаточная? Броня «фанерная»? Допустим. А у немецкого пехотного танка какой двигатель? Броня какая? Какая пушка, сколько пулеметов? То-то.
Танки с недостатками — это лучше, чем полное их отсутствие. У советской пехоты танк с недостатками, а у германской — никакого.
У Сталина для пехоты «плохой» танк, а у Гитлера и этого нет. Про советский пехотный танк говорят «устаревший», но не уточняют, в сравнении с каким. Так как не с чем сравнивать. Не было в германской армии аналогов.
И еще: Т-26 — это ведь только ДОПОЛНЕНИЕ. Это подмога главной танковой мощи.
7
Армия Финляндии зимой 1939/40 года применяла британские «Виккерсы» с большим успехом. Несмотря на то, что на них были слабенькие 37-мм пушки. И ни один советский генерал не объявил, что «Виккерсы» с 37-мм пушками в 1940 году были устаревшими. Как же могли наши Т-26 к 1941 году устареть?
Основа обороны армии Финляндии — линии инженерных заграждений, прикрытые огнем долговременных железобетонных огневых сооружений, хорошо вписанных в местность и замаскированных. А между ними кочуют легкие «Виккерсы»: выстрелил из засады и замер, ночью сменил позицию и снова ждет жертву. Как снайпер.
Если бы Красная Армия в 1940 году вдоль западных границ создала непрерывную линию траншей и инженерных заграждений и использовала свои «устаревшие» Т-26 в качестве подвижных и неподвижных огневых точек, то проломить эту оборону было бы невозможно. Особенно если бы линия траншей опиралась на мощные железобетонные укрепрайоны «Линии Сталина».
Т-26 можете называть устаревшими, но от этого ничего не меняется, так как 200 стрелковых дивизий с устаревшими танками — это лучше, чем 200 стрелковых дивизий вообще без танков. Пехота с танками всегда сильнее, чем пехота без танков. В любом виде боя — в обороне, в контрударе, в наступлении, при прорыве обороны, при преследовании противника — лучше оказаться с танками, чем без них.
Собственный, а не приданный, отдельный танковый батальон в руках командира каждой советской стрелковой дивизии был козырной картой. В критической ситуации танковый батальон служил стальным каркасом, вокруг которого можно было организовать любой вид боевой деятельности.
Противотанковая оборона советских стрелковых дивизий была воистину непробиваемой. Каждый командир батальона имел собственный противотанковый взвод — две 45-мм противотанковые пушки, которые на первом этапе войны, до Сталинграда включительно, могли бороться с любыми германскими танками. Командир батальона в бою выдвигал эти пушки на самое опасное направление в помощь той своей роте, которой приходилось тяжелее всего.
Кроме этого, командир каждого стрелкового полка имел собственную противотанковую батарею — 6 таких же пушек. Он не делил их поровну между батальонами, а в критический момент боя выдвигал на самый угрожаемый участок в помощь тому батальону, по которому противник нанес главный удар.
Помимо этого, командир дивизии имел собственный противотанковый дивизион — 18 таких же пушек. И он тоже не делил их между своими стрелковыми полками, а выжидал, когда определится направление главного удара противника. И только установив, где самое жаркое место, бросал туда свой противотанковый дивизион.
Итого в каждой советской стрелковой дивизии было 54 противотанковые пушки: 18 в руках командиров девяти стрелковых батальонов, 18 в руках командиров трех стрелковых полков и 18 в руках командира дивизии.
Такая организация позволяла не распылять противотанковые пушки по фронту дивизии, а последовательно концентрировать усилия на том направлении, которое на данном этапе было самым опасным.
Кроме этого командиры стрелковых полков использовали против танков 76-мм полковые пушки, а командир дивизии — два артиллерийских полка. На вооружении этих полков помимо прочего находились 76-мм пушки Грабина. Часть из них в первые месяцы войны была захвачена германской армией, и эти пушки стали самыми мощными германскими противотанковыми пушками первого периода войны.
А помимо всей этой артиллерии каждый командир советской стрелковой дивизии мог в критический момент выдвинуть на угрожаемое направление свой отдельный танковый батальон — 54 танка Т-26.
Т-26 — это та же 45-мм противотанковая пушка, но самоходная, но с пулеметами, но прикрытая пусть легкой, но броней.
Почти 200 советских стрелковых дивизий с танками (повторяю, помимо мощных танковых соединений) могли быть весьма серьезной силой в случае внезапного германского нападения. Имея собственные танки, любая стрелковая дивизия могла в любом месте быстро организовать непреодолимую оборону, используя Т-26 как бронированные противотанковые, пушки, ставя их в засады, используя в качестве врытых в землю неподвижных огневых точек или подвижного противотанкового резерва.
Но этого не случилось. И давно пора задать вопрос: почему? И настало время найти виновника.
* * *Летом 1941 года вдруг оказалось, что советские стрелковые дивизии собственных танков Т-26 не имеют. И собственных танковых батальонов нет в их составе. Всегда были, а грянула война — их нет. Пехота без танков осталась. Как же такое случилось? Куда же они подевались? Кто виноват?
Вопрос не мне задавать надо. А выдающемуся полководцу. Но никто полководца таким вопросом не озадачил. И сам он этот вопрос обошел стороной.
Беда не в том, что Т-26 был плохим танком, а в том, что весной 1941 года по приказу Г.К. Жукова все танки Т-26 у советских стрелковых дивизий отняли. И использовали их не по назначению.