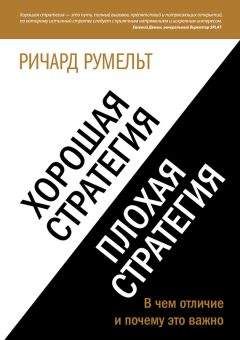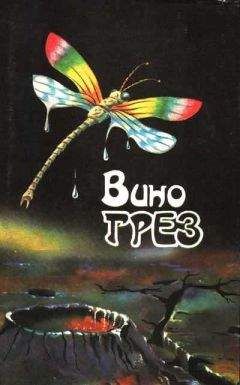Валерий Елманов - От грозы к буре
Тот скрепя сердце дал ему в удел небольшой городок Мозырь, стоящий почти на самой границе с бывшим Турово-Пинским княжеством, которое ныне также перешло под власть Рязани. Да и не мог молодой двадцатишестилетний Мстислав претендовать на большее, поскольку даже по великому лествичному праву, которое иногда еще вспоминали, если твой отец на престоле не сиживал, стало быть, ни тебе, ни потомству твоему там делать нечего. А у него не то чтобы отец, но и дед Олег Святославич в Чернигове не княжил, потому как слишком рано скончался.
Угрюмо молчал и второй подстрекатель – Ярослав Всеволодович. Смоленский князь то ли в насмешку, то ли для вящей памяти, чтоб не забывалось, то ли как бы в упрек безмолвный предложил ему в кормление земли и городок с тем же названием, что и рязанский, – Ростиславль. Был он приграничным с Рязанской Русью, и Ярослав, поблагодарив, от него отказался.
Его деятельная натура настойчиво требовала чего-то большего. В конце концов, с трудом смирив гордыню, точнее, усилием воли приглушив ее на время, он еще до осенней распутицы подался в гости к своему тестю, в Галич. Мстислав Мстиславович после долгих колебаний выделил непутевому зятю тоже приграничный город, и тоже весьма с символичным названием. Но, во-первых, теперь его главным соседом стал не Константин, а польский князь Лешко Белый, а во-вторых, название города было символичным лишь потому, что звучало точно так же, как и имя самого князя, – Ярослав.
Третий же, а по значимости, может, и первый из подстрекателей, епископ Суздальский, Владимирский и прочая Симон, отделался поначалу, если можно так выразиться, условным сроком. Да и то лишь потому, что Константин просто не знал, какие санкции к нему применить. Конечно, лучше всего было бы полную изоляцию к нему применить, засунув в какой-нибудь монастырь, но как отреагирует митрополит на такое самоуправство, Константин не знал, а рисковать боялся. Не время было ссоры из-за такой ерунды затевать. Поэтому он лишь строго пообещал Симону, что еще только один раз – и тогда уж точно все. А что именно «все» – ни за что бы не ответил. Да он и сам не знал.
Раз этот пришелся уже через два месяца, когда ранней зимой епископа вновь застукали врасплох. Монаха, посланного Симоном незадолго до этого к своему коллеге в Чернигов, люди воеводы Вячеслава аккуратно напоили сонным зельем уже в Муроме и, пока он спал, прочли послание. Константин в это время как раз уехал в Переяславль-Южный, чтоб сдержать данное княжичам слово. Но то, что в послании было написано, настолько взбесило воеводу, что он и дожидаться княжеского возвращения не стал. Просто ворвался через пять дней в покои епископа, небрежно бросил изъятую грамотку на стол и заявил со своей прямотой:
– Слыхал я, что горбатого только могила исправит. От себя добавлю, что тебя, святой отец, лишь монашеская келья вразумит. Короче, так… Пока горит твой огарок, – а свеча да столе и впрямь уже еле теплилась, – подумай хорошенько и выбери сам. Либо даешь согласие, и мы тебя нынче же отвозим в любой из монастырей, где ты принимаешь на себя великую схиму[118], либо ты, но все равно сегодня же, берешь на себя тяжкий труд проповеди слова божьего среди закоренелых язычников. Тут я тоже, как добрая душа, даю тебе право выбора. Хочешь – к мордве отвезу, хочешь – к черемисам[119] доставят. Можешь к литве дикой, ятвягам буйным, пруссам неумытым. Словом, куда угодно… кроме половцев. Туда тебя посылать никак нельзя, это все равно что козлу доверить капусту сторожить.
– Да ты как посмел?! – аж задохнулся от ярости Симон. – В своем ли ты уме, воевода?!
– Я еще не посмел, – поправил воевода. – Вот если свеча догорит, а ты ничего не надумаешь, тогда и посмею… сам за тебя выбор сделать, но уже третий. Кляп в рот, мешок на голову и в лес до первого дуба на опушке. Веревка у меня с собой, а руки аж чешутся… посметь.
– Нешто ты и впрямь веришь, что хоть кто-то из твоих людей отважится на столь богомерзкое деяние? – криво усмехнулся Симон, еще не желая признаться, что проиграл.
– Да я об этом даже и не думал, – искренно удивился Вячеслав. – Неужели я такого удовольствия самого себя лишу. Да ни в жисть. Я же твое преподобие самолично вздерну. Тем более что ты и так святую Русь целый лишний год ногами своими погаными топчешь.
– И рука не дрогнет? – уже вяло, потому что ответ он предвидел, спросил епископ.
– Навряд ли, – уверенно заявил воевода. – Разве что от радости.
– Христос тебя покарает, – попробовал пугнуть Симон, хотя тоже скорее из-за того, что не хотел сдаваться сразу.
– Он таких, как ты, фарисеями называл. Если бы он сейчас на Руси появился, то ты бы его к себе в кельи подвальные засунул бы как еретика.
– Сын мой, ведь в евангелии сказано: «Не судите, да не судимы будете», – попытался отсрочить хотя бы ненадолго свой крах епископ, но увещевания не получилось.
Вячеслав ему даже договорить не дал, перебив гневно:
– Чем такого отца иметь, лучше с тамбовским волком породниться. А насчет того, что не судите – это ты верно сказал. Тут я тебя послушаюсь и повешу без суда и следствия. Да что я тут с тобой валандаюсь, – махнул он рукой. – Я так понял, что выбирать ты не хочешь, то есть мне за тебя решать нужно? Так?
– Нет! – возопил испуганно епископ. – Во Владимире останусь. Откуда пришел, туда сызнова вернусь[120].
– Перебьешься, – усмехнулся Вячеслав. – О Владимире ты забудь, владыка. Я еще из ума не выжил – в родных пенатах тебя оставить.
– Тогда в Суздаль отправлюсь, в Покровский монастырь. Завтра же выеду, – не стал перечить Симон, надеясь только на то, чтобы этот наглец ушел и оставил его в покое всего на одну ночку.
О-о-о, это для кого другого одна ночь ничего не значит. Для Симона же она была бы самой настоящей спасительницей и избавительницей, но…
– В Суздаль так в Суздаль. Только не завтра, а нынче и сейчас, – категорично заявил воевода, почуявший неладное.
– Но собраться время нужно.
– В повозке тепло.
– Одеться.
– Ты что – голый? В рясе сидишь. Вполне хватит.
– Мне указания надо дать.
– Знаю я твои указания. Потом за тобой их еще полгода придется расхлебывать, – проворчал Вячеслав.
– Но ведай, сын мой, что ты совершаешь тяжкий грех, ибо хочешь, чтобы я принял великую схиму не по своей воле, а по принуждению, – уже усаживаясь в возок, заметил епископ.
– Еще одно слово про принуждение, и первый дуб твой, – сурово предупредил его воевода. – Я ж тебе выбор предложил, и ты сам его сделал. Сказал бы, что мордве слово божье хочешь проповедовать, так мы бы тебя мигом туда доставили. А раз выбирал добровольно, то ни о каком принуждении и думать не моги.
Вот так в Покровском монастыре града Суздаля появился новый монах, принявший после второго пострига имя старца Филарета. В стенах монастыря сей старец вскоре очень близко сошелся еще с двумя. Один был седым как лунь, хотя и с молодым лицом. Звали его отцом Аполлинарием, отринувшим, после увиденного им откровения божьего, языческое имя Гремислав. Второй, внеся при вступлении хороший вклад, устроился относительно комфортабельно и отзывался на имя Азарий. Прежнее имя, хотя тоже крестильное, которое ему дал во младенчестве отец, ожский боярин, он еще помнил, но уже смутно, будто Онуфрием звали не его, а кого-то другого.
Одной из самых любимых тем их общих разговоров была чистая христианская скорбь по завлеченной в тенета диавола и потому навсегда загубленной душе рязанского князя Константина. Скорбели о ней все трое монахов не реже раза в неделю, обычно после вечерни, после чего смиренно расходились по своим кельям, пребывая в необыкновенно умиротворенном состоянии духа.
Вообще-то великая схима, как высшая ступень монашества, при которой даже другое имя положено давать, предполагала под собой самое строгое соблюдение всех обетов. Какие беседы, когда он даже из кельи своей и то выходить не должен! Но тут уж Вячеслав был бессилен что-либо сделать, даже если бы узнал про чрезмерную снисходительность тамошнего церковного руководства монастыря, которое, будучи по натуре трусоватым, по привычке еще продолжало опасаться бывшего владыки. Не зря бывший епископ выбрал именно Покровский монастырь. Знал он, что нигде ему так хорошо и спокойно не будет, как у игумена Тимофея.
Спустя же три месяца старец Филарет взял чистый лист пергамента и написал на нем своим красивым витиеватым почерком, которым он в свое время так гордился: «Ведомо мне, божьему человеку, стало, что рязанский князь Константин, еще в младости лет пребывая, крестом православным тяготился и носити оный не желаша».
Строки, выводимые рукой привычного к письму старца, ложились на чистый желтоватый лист ровно и разборчиво, наполняя сердце монаха радостным умилением от появившейся возможности последовать старому библейскому завету: «Око за око…»