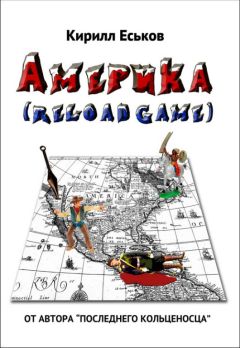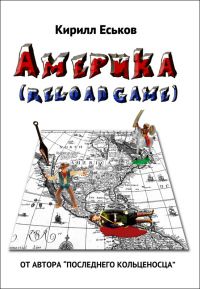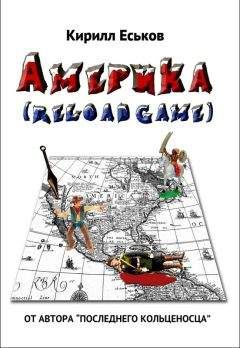Игорь Курас - Программист и бабочка (сборник)
– Ну, я не думаю, что смогу сегодня что-то есть, – сказала героиня, открывая окно и чуть наклоняя голову навстречу неосвежающему движению жаркого летнего воздуха.
Когда подъехали к его дому, она уверенно повторила, что в ресторан ни за что не пойдет, мол, ее мутит от запаха еды, но разгрузив съемочное барахло, они отправились в украинский магазин и накупили кучу снеди и выпивки. Она настолько похоже изобразила «западенский» говорок, что продавщица стала нахваливать какие-то особые пирожки свежей выпечки и что-то еще и еще – он не понимал и молча складывал в корзинку пакеты. Вся эта родная закуска вполне пришлась к месту, и гадкие впечатления прошедшего дня отступили, как только они устроились за шатким столиком в его кухне и выпили по первой. Правда, он чуть не ляпнул: «За упокой овечьей души», но вовремя споткнулся на слове «за» и выпалил банальное, но хотя бы невредное: «За наше творческое сотрудничество!» Водку она пила с задором и безостановочно что-то говорила:
– Кто придумывает эти дурацкие сюжеты, в которых мы играем свои глупые роли? Кто я теперь? Украинская дивчина, заблудившаяся в Америке? Водитель старенького «шевроле»? Фея из Волшебной Страны? Пицца-герл? Помощница оператора, снимающего сложную хирургическую операцию, которую на сердце овцы проводит русский профессор в чикагской больнице?.. Чушь! Какое плохое кино… И все новые и новые фальшивые, глупые роли… Впрочем, я люблю новые роли, старые мне продолжать неинтересно… А ты знаешь, кто я? Я вообще-то действительно артистка, когда-то даже играла в театре пантомимы. Знаешь, кого играла? Му-ху!.. Очень успешно изображала, представь себе. Я летала, летала – «зи, зи»… а потом меня – хлоп! И нету! Нету меня, нету мухи… Убили муху. Что-то я под такой мухой… Ты меня нарочно напоил, да?
– Конечно, нарочно, – он потянулся к ней и осторожно убрал с ее лица растрепавшиеся волосы, – бедная ты моя, убитая муха-цокотуха.
Ночью старый корабельный трюм жутко штормило. Все в нем качалось, стонало и скрипело – вот-вот рассыплется на мельчайшие детальки. Уже почти ничего не чувствовали горящие губы и влажные тела, но снова и снова накатывались гигантские, выпущенные на свободу волны глубоко запрятанных желаний, и, казалось, не будет им конца. Однако пришел самый высокий, самый девятый вал и конец, конечно же, наступил, потому что ничто не продолжается бесконечно. Даже тихая летняя ночь снаружи и безумный шторм внутри корабельного трюма на втором этаже странного дома, плывущего вместе с соседней церквушкой среди верениц спящих автомобилей по тесным улицам Украинской Деревни.
На рассвете они нацепили на себя какое-то подобие одежды, вылезли по задней лестнице на теплую, неостывшую за ночь крышу и, обнявшись, стали на краю. В небе еще висела сонная ночная дымка, но солнце уже пробовало царапать глаза бликами от окон и зеркальных стен небоскребов, сбившихся в кучу в центре Чикаго. Уставшие в долгом путешествии мореплаватели, щурясь, с тревогой и надеждой рассматривали этот скалистый берег нового городского дня…
– Послушай, а кто твои соседи… по кораблю? – спросила она, – я, наверно, очень громко орала?
– По-моему, не громко. По-моему, в самый раз, – довольно ухмыльнулся он. – И вообще – пусть завидуют…
Вернувшись в дом, они мгновенно заснули, но спали недолго, потому что около девяти явился Бронштейн.
– Во-первых, я принес деньги за молочную свадьбу и аванс за овцу! – загрохотал он с порога. – Во-вторых, у меня готов план монтажа и сопроводительный текст профессора, переведенный на английский. Через три дня я назначил озвучивание: этот текст за кадром будет читать моя знакомая американка, преподаватель из Трумэн Колледжа. Когда она приедет…
Тут Бронштейн уставился на появившуюся из района спальни знакомую футболку с надписью: «Это не пивной бочонок, это бак с горючим для секс-машины». Футболка сказала: «Здрасьте» и, приветливо улыбнувшись, проследовала в район кухни. При этом из-под футболки выглядывали такие потрясающие коленки, что продолжить инструкции Бронштейн не сумел.
– Опа-опа… опочки… – забормотал он, переведя круглые глаза на хозяина квартиры, – такие дела, дела такие… Значит, текст я тебе оставляю. И чеки. А ты монтируй, мон-ти-руй… До свидания! – это громко в сторону кухни, а потом снова тихонько: – Я испаряюсь.
И Бронштейн испарился.
Договорились, что она придет к нему вечером, после работы, но она не пришла. Он занялся монтажом овечьей операции, просидел допоздна и только утром сообразил, что ничего о ней не знает, кроме имени, даже на номер машины не обратил внимания. И где она живет, тоже неизвестно.
Она не приехала и на следующий день, и тогда он помчался в «Папа Савериос». Индиец неохотно прокаркал, что русская пицца-герл не появлялась уже несколько дней. Ни ее фамилией, ни адресом владелец пиццерии никогда не интересовался и платил ей наличными после каждого рабочего дня.
Пока шли попытки расспросить индийца, из двери кухни выглянул маленький повар, и вдруг показалось, что красноватое от кухонного жара – и вообще красноватое – лицо мексиканца плавится слезинками. Но лицо быстро исчезло, а индиец сообщил, что повар почти не говорит по-английски. Да и что важного этот мексиканец может знать?..
Через месяц на сдачу готового фильма профессор приехал с женой и меланхоличным спонсором по имени Илюша. Жена профессора разговаривала милым питерским говорком. Пока мужчины что-то обсуждали с Бронштейном, она успела осмотреть квартиру и затем участливо, но очень некстати спросила у хозяина:
– Вы, я вижу, живете по-холостяцки. Что ж так?
Фильм он запустил на самом большом мониторе. Уверенный, но малопонятный текст на английском языке шикарно звучал через колонки и придавал скучному действу профессиональный и глубоко научный характер. И хотя ощущение того, что на экране идет аккуратная разделка окровавленной туши в мясном отделе периодически настырно возвращалось к непосвященному Бронштейну, профессор остался очень доволен. А в конце, когда в кадре появилась беспечно жующая овечка, якобы успешно перенесшая тяжелую операцию (на самом деле это были съемки, сделанные в загончике еще до операции, да и вообще в фильм вошел тот эпизод, который запечатлел не покойную ныне страдалицу науки, а никогда не оперированную и поэтому совершенно не пострадавшую дублершу), профессор радостно толкнул локтем спонсора и совершенно искренне прогоготал:
– Смотрите, дорогой мой, Илья Эдуардович, вот она! Как жует, как жует! Продавать это надо быстрее, продавать.
И такова была сила искусства, что профессор в этот момент, похоже, сам забыл, как в действительности завершилась операция.
После того как гости ушли, они с Бронштейном еще долго сидели друг против друга в старых ушастых креслах. Допили все, что оставалось в доме, даже остатки какого-то жуткого кокосового ликера, неизвестно каким образом оказавшегося в одном из шкафчиков на кухне. И хотя у Бронштейна закончился жизненно важный запас таблеток, он стойко не покидал товарища.
– Ты не убивайся, – увещевал Бронштейн, постоянно делая массирующие движения рукой у себя под правым ребром, – а то на тебя смотреть… э-э… неприятно. Может, она еще появится. Бог знает, что у женщин на уме… Да, я забыл тебе сказать: за овцу расплатились сполна! Значит, бизнес у них идет-таки, хотя овца была того… запасная. Может, и тебе надо… завести запасную?
– Не появится, я знаю, что не появится, – мотал он головой, – и запасной такой нет и быть не может. Это было как штучный, неповторимый кадр, редкая операторская удача… Мелькнуло – и все, уже не повторится никогда, лови не лови. Просто ей нравится все время играть новые роли, старые ей продолжать неинтересно. Но как же я, кретин, не спросил ее адрес? Фамилию… Или хотя бы запомнил номер «шевроленка»… Меня теперь на улице от вида каждой маленькой зеленой машины будто током лупит. Я лихорадочно пытаюсь разглядеть, кто за рулем и…
Тут раздался зуммер дверного звонка.
– Ха, смотри, у тебя домофон починили! – Бронштейн встал и, подойдя к двери, нажал кнопку. – Хеллоу?
Домофон помолчал, а потом ехидно выдал по-русски:
– Пиццу заказывали?
Хозяин квартиры вскочил, заорал: «Заказывали, заказывали!» и, распахнув дверь, бросился мимо Бронштейна вниз по лестнице.
Бронштейн какое-то время вяло разглядывал опустевшую гостиную, открытую настежь дверь, черные прямоугольники мониторов, деревянные корабельные балки на потолке. Бронштейну подумалось, что все это здорово напоминает декорацию, сцену из пьесы, скорее всего, какого-нибудь современного зарубежного автора про их зарубежную жизнь. И еще ему подумалось, что жизнь эта уже не зарубежная, а теперь своя, его жизнь, и надо доиграть доверенную ему мизансцену. А так как другие персонажи на сцену не возвращались, Бронштейн вздохнул, решительно поднялся с кресла, поклонился, как зрителям, большому темному окну, выходящему в Украинскую Деревню, взял дипломат и стал спускаться к выходу.