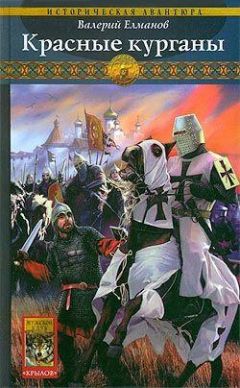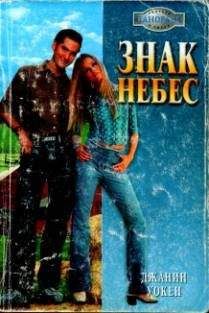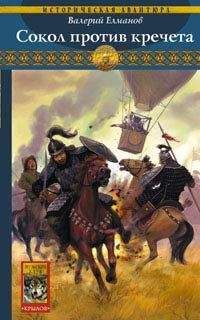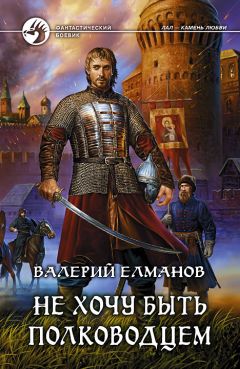Валерий Елманов - Знак небес
– А я и не распустил, – возразил князь. – Я просто думаю, выход ищу приемлемый из создавшейся ситуации.
– Как говорила моя мамочка Клавдия Гавриловна, – поучительно заметил воевода, – если с такой угрюмой мордой думать, то и выход отыщется точно такой же мрачный. У тебя вон парень на выданье. Сколько ему уже? Женить-то не думаешь? Или в Чернигове малолетних княжон нет?
Заметив, как оживилось лицо друга, он, ухмыльнувшись, гордо похвалился:
– Это только один вариант. Давай-ка сейчас в парилочку, и я тебе там под веничек столько их накидаю – замучаешься выбирать.
– Думаешь, успеем до Калки? – вздохнул Константин, вставая с лавки.
Вячеслав в ответ только присвистнул.
– Да у нас времени вагон и маленькая тележка. Обязательно успеем. Должны успеть, иначе нам потомки не простят, – добавил он жестко и поторопил князя: – Пошли, а то Епифан там заждался уже.
Уже устроившись, поудобнее на полках – Вячеслав повыше, а Константин пониже – и ожидая, пока Епифан закончит колдовать с каменкой и примется за них, воевода, вспомнив, спросил:
– А от твоего арабского купца, ну, который монгольским шпионом оказался, ничего не слыхать?
– Тишина, – отозвался князь, тут же ойкнув от первого прикосновения к телу горячего распаренного березового веника, и добавил торопливо: – Самому интересно, жив ли он сейчас и на кого по-настоящему решил работать.
Он втянул в себя аромат свежевыпеченного каравая, которым густо запахло от кваса, щедро выплеснутого на каменку, и окончательно умолк – Епифан взялся за дело всерьез, так что стало не до разговоров.
А арабский купец Ибн-аль-Рашид был жив. Более того, именно в этот день банных утех рязанского князя купец окончательно убедился в том, кому следует помогать по-настоящему, а кому – только на словах.
Если раньше он еще как-то сомневался, да и страх играл немалую роль, то теперь…
Проехав по почти полностью разрушенной Бухаре и вдоволь наглядевшись на многочисленные и до сих пор не погребенные трупы ее жителей, он уже почти не колебался. От изобилия покойников его стало мутить, едва они въехали в некогда великий город. Несколько раз Ибн-аль-Рашид, будучи не в силах справиться с рвотными потугами, слезал со своего невозмутимого верблюда и надолго задерживался возле пересохшего арыка – желудок выворачивало чуть ли не наизнанку. Трупы были повсюду – обезображенные, изувеченные, гниющие. У многих вспороты животы, монголы искали там серебряные дирхемы и золотые динары.
Широких раскидистых платанов и чинар, под сенью которых так славно отдыхалось в знойные летние дни, тоже не было. Степняки вырубили их подчистую. Многие дома, правда, оставались целыми, так же как и караван-сарай[97], но все равно от них веяло каким-то унынием и заброшенностью.
Но главное – запах. Отовсюду несло такой вонью, что заходить куда-либо было просто чревато. Удушливо сладкий запах гниющей плоти еще долго преследовал купца. Не меньше десятка верст отмерил он, удаляясь от бывшей семивратной жемчужины Средней Азии, прежде чем аромат смерти немного поутих и перестал преследовать Ибн-аль-Рашида. Вот тогда-то он и определился до конца.
Купец всегда и всюду в первую очередь созидатель, повелитель монголов – разрушитель. Они сходились только в одном. Как торговые пути объединяют державы, так и Чингисхан соединял воедино земледельческий Китай, диких кочевников степей и великую некогда державу шаха Хорезма в единое целое.
Но и здесь тоже имелись различия. Ибн-аль-Рашид и ему подобные делали это с помощью мира, всячески укрепляя его, ибо он выгоден каждому торговцу. Цементом им служили товары и серебро с золотом.
Великий потрясатель вселенной тоже крепил его, но с помощью войны, склеивая свои обширные и весьма разношерстные территории исключительно жестокостью и кровью. И на этом пути Ибн-аль-Рашиду было явно не по пути с монгольскими воинами.
В ставку Чингисхана купец в сопровождении корукчиев[98] прибыл уже под вечер. Она располагалась в уютной некогда долине, окруженной со всех сторон невысокими пологими холмами. По пути его несколько раз останавливали многочисленные разъезды, но всякий раз разочарованно отпускали. Выручала пайцза.
Устроится на ночлег торговцу удалось тоже без особых хлопот – встретились знакомые перекупщики. Ибн-аль-Рашид обычно с такими дел не имел, но тут обрадовался им как малый ребенок. А не имел, потому что всегда считал этих людей мелковатыми для своих торговых дел. Потому они и вились возле степного войска в надежде существенно увеличить имеющийся первоначальный капитал. Это было чрезвычайно опасно – могли ограбить и даже убить. Но это еще было и очень прибыльно. Чертовски прибыльно.
Воины, зная, что впереди предстоят длительные походы, стремились поскорее избавиться от награбленного добра, потому что остатки добычи у них зачастую отбирали и сжигали, как обременяющее в пути.
Нет, конечно, никто не препятствовал степняку напялить на себя, вместо одного, два, а то и три халата. Но что делать с остальной одеждой, когда на тебе самом ее уже столько, что трудно повернуться, а хурджины[99] на сменной лошади тоже забиты до отказа?
Он-баши было чуть легче, юз-баши – совсем неплохо, а мии-баши[100], имеющим в своем распоряжении арбы, и вовсе хорошо, но рядовым воинам…
Вот потому уже в первые после захвата города дни за вещь стоимостью в золотой динар не знающий ее истинной ценности дикий степняк просил вдвое, втрое, а то и вчетверо дешевле. Затем цена падала еще больше. Когда же по лагерю кочевников проносился слух о том, что завтра выступать, суммы запрашивались и вовсе смехотворные, уменьшаясь в десятки раз и опускаясь до одного черного дирхема[101]. В такие вечера гомон бесконечного торга утихал лишь к полуночи, не раньше.
Впрочем, Ибн-аль-Рашид такой мелочовкой не интересовался. Да и не до того было. Ему предстояло все взвесить и продумать, что именно говорить хану. Особенно тщательно – о чем умолчать.
А вот лгать не стоило. Аллах, конечно, делал в этом случае скидки правоверным, поскольку обман людей, не приобщенных к истинной вере, допускался, хоть и с оговорками. Зато у Чингисхана скидок не было. Никогда. Никому. Нигде. Поэтому, прежде чем явиться к потрясателю вселенной, необходимо было как следует приготовиться к предстоящему разговору.
Но купец не успел. Тот сам нашел его и позвал. Ближе к полуночи за ним пришли два здоровенных бугая из числа кебтеулов[102]. С монголами их роднила только кривоногость, желтизна кожи, узкие глазки и плоские, как сковорода, лица. Возглавлял же их сам Тахай, которого Чингисхан поставил руководить всеми разведчиками еще тридцать лет назад.
Араб думал, что его приведут в огромный ханский шатер, вмещавший при необходимости до сотни человек. Однако не успели они даже дойти до высоких плечистых кешиктенов, застывших, будто изваяние возле шатра, как Тахай неожиданно дернул купца за руку, бесцеремонно увлекая его за собой влево, где метрах в ста пятидесяти стояла еще одна юрта. Подходила она больше для какого-нибудь он-баши или юз-баши, не выше. Даже для мии-баши она уже не годилась, не говоря уже о темнике[103] или, страшно сказать, о самом повелителе вселенной.
Правда, были в ней и тяжелые плотные ковры, богато украшенные разноцветным орнаментом и в обилии развешанные на тонких стенах, но на земляном полу лежал обычный войлок. Стояло перед купцом и богатое угощение, но подано оно было прихрамывающим старым слугой-китайцем, причем на блюдах, совершенно разных по стоимости. Были там и золотые мисы, отделанные по ободку причудливым орнаментом, но были и серебряные, и даже грубо вылепленные из обычной глины.
А еще купец подумал, что зря поверил рязанскому князю Константину, который слишком доверял своим предсказателям. Понадеявшись на его слова, купец прибыл в Бухару, опрометчиво считая, что у него в запасе уйма времени до той поры, пока придет этот проклятый степняк. Как выяснилось, неведомый звездочет Константина ошибся и очень сильно – на целый год.
Сам Чингисхан находился уже в юрте. Он был, точнее, выглядел очень спокойным. Впрочем, как всегда. Почти всегда. Но купец уже знал, что спокойствие это обманчиво и больше всего походило на медлительность гюрзы перед смертельным прыжком. Лишь желтые немигающие глаза великого сотрясателя[104] вселенной самую малость выдавали истинное состояние души властителя монголов – ленивое, но настороженное, хотя пока и без шалых искорок безумия где-то там, в самой их глубине.
Эти искорки весело плясали, когда горели один за другим города тангутской империи Си-Ся, переходили в безумное адское пламя во время очередного сражения и угрюмо роились в самой глубине зрачка, когда Чингисхан определял дальнейшую судьбу пленных, захваченных на поле битвы. Сейчас их не было, и одно это уже радовало Ибн-аль-Рашида, хотя на самом деле ничего не значило. Появиться они могли в любой момент. Пока же гюрза размышляла.