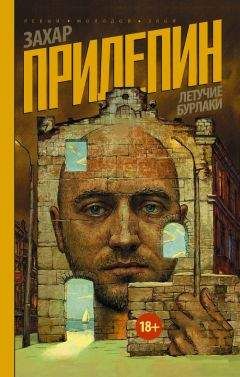Обитель - Прилепин Захар
Некоторое время он пребывал в лёгкой уверенности, что сейчас умрёт.
Открыл рот, попытался выдохнуть: воздух исчез.
Чудом появился Мезерницкий, будто знавший заранее, чем дело закончится, – в руках он нёс сразу четыре кружки ячменного кофе.
– А вот, а вот, – засуетился он около Артём. – А запить. А остыл уже.
Артём скорей сделал глоток: разбавил краску.
Но, удивительно, воздух едва начал проникать, а на душе уже становилось теплее и будто бы чище.
Владычка Иоанн смотрел на него, как на родное дитя, и, едва Артём вздохнул – батюшка и сам задышал.
Он обладал удивительным качеством – ни с кем не разговаривая, поддерживать всякий разговор: настолько полным понимания и вовлечённости был его взгляд.
Мезерницкий опять ушёл и вернулся с блюдом, на котором располагалось что-то пышное и очень ароматное, несмотря на то, что чуть подгоревшее, – видимо, та самая шарлотка.
– Бог ты мой, а я и не поверил, – всплеснул руками Василий Петрович. – Думал, шутка. Как же вы её приготовили, голубчик?
– На Соловках, как мы знаем, возможно всё, – отвечал Мезерницкий, ставя блюдо на стол, который поспешно пришлось освобождать – бутылки и склянки разноцветно зависли на вытянутых руках гостей, по-птичьи подыскивая себе место, – и лишь когда всё спиртное и съестное обрело некоторый покой, честно рассказал: – Купили сушеную дикую грушу, Василий Петрович, – уже полдела. Нашли масло и повидло. Тюлений жир. Наконец, чёрные сухари. И вот вам – угощайтесь. Артём, ещё по одной? Тут все непьющие.
– Под шарлотку я всё-таки рискнул бы, – сказал Василий Петрович.
– Ну так рискнём! – сказал Мезерницкий и налил себе с Артёмом по второй, а Василию Петровичу – прорывную.
– Артём, – сказал Василий Петрович чуть патетично, хотя в глазах его было наглядное лукавство, – мы с вами столько…
– …Ягод съели, – подсказал Артём.
– Да, – согласился Василий Петрович, будто бы даже охмелевший заранее. – И ни разу ещё не выпили. Непорядок!
– Выпьем не раз ещё, – сказал Артём, тоже немного – насколько умел – расчувствовавшийся.
– Думаете? – очень серьёзно спросил Василий Петрович, словно Артём знал нечто, ему неизвестное.
– Думает! – ответил за него Мезерницкий, уставший их ждать со стаканом в руке. – Ergo bibamus! – и сам себе перевёл с латыни: – Следовательно, выпьем!
И выпил.
Артём во второй раз потерял воздух и снова застыл в его ожидании. Василий Петрович на удивление легко перенёс употребление ещё более, казалось бы, злого, в чёрных лохмотьях напитка, и поспешно искал младшему товарищу кружку ячменного кофе, заодно самовольно отломил ему – но не себе! – кусочек ещё не тронутой шарлотки.
Тем временем Мезерницкий заставил всех на минуту задуматься.
– Знаете ли вы, мои образованные друзья, что выражение “ergo bibamus” – “следовательно, выпьем” – позволяет прекратить любой спор и любую фразу превратить в тост?
Артём сначала выпил глоток кофе, а потом уже попытался осознать смысл сказанного. Внутри его песочными волнами осыпалось сознание и подступал тяжёлый хмель.
– Граков, будешь пить? – спросил Мезерницкий как бы в качестве примера, подтверждающего его слова.
– Вы же знаете, я не пью, – сказал Граков чуть напуганно.
– …Я не пью, ergo bibamus! – завершил Мезерницкий и действительно ещё разлил по одной.
– Милый ты мой, дай же ты ребёнку отдышаться, как с цепи сорвался! – не удержался тут владычка Иоанн.
– Да! – осушив третью, воскликнул Мезерницкий. – Именно!…С цепи сорвался, ergo bibamus!
Все захохотали, и владычка тоже тихо засмеялся, прикрывая глаза рукой.
– Так решительно не получится разговаривать, – пожаловался со слезой в лукавом голосе Василий Петрович и, естественно, тут же попался на крючок.
– …Решительно не получится разговаривать, ergo bibamus!
Пришлось пить ещё одну.
Все застыли, как дети в игре, переглядываясь и сдерживая смех; у Артёма внутри неожиданно стало сладко-сладко: и Эйхманис, и красноармеец Петро, и тюк с одеждой, и десятник Сорокин с потными подмышками, и эта сука ушли сначала далеко-далеко, а потом всё та же сука, перевернувшись в мягком и чарующем воздухе, вернулась обратно, и он неожиданно почувствовал её запах, и её дыхание, и её обветренные губы…
Остальные между тем пытались найти хоть какое-то слово, которое не способно было бы привести к немедленному употреблению радужного алкоголя.
Мезерницкий, то ли сурово, то ли смешливо, осматривал гостей, как бы пребывая в засаде, но одновременно нарезая шарлотку. Ногти у него на этот раз, заметил Артём с удовлетворением, были чистые и стриженые.
“Именины же!” – пояснил он себе.
Владычка Иоанн, кажется, готов был прочесть молитву перед принятием совместного ужина, но, видимо, всерьёз опасался немедленно услышать про ergo bibamus.
– Как я вас, – строго, но с иронической, всех расслабившей модуляцией в голосе сказал Мезерницкий. – Говорить, однако, можно о чём угодно! Просто результат любого спора предопределён!
И все разом, будто желая вдосталь наобщаться, пока их не поймали за рукав, заговорили.
– …Я был в Крыму: ещё дамы, ещё эполеты, но ничего этого уже нет, эта жизнь умерла!.. Есть мёртвые города – где уже никто не живёт и лишь руины. А это был мёртвый город с живыми людьми! – говорил Мезерницкий, который как-то странно пьянел: как будто его обволакивало тёплое, чуть туманное облако – оно глушило любые звуки, и каждое слово давалось ему с некоторым трудом. – Грустно? Грустно! Но отчего же нам не грустить сейчас – всего этого тоже скоро не будет.
– Чего? – не понял Шлабуковский.
– Всего, – и Мезерницкий развёл руками. – Рот, баланов, леопардов, десятников, Эйхманиса… ничего! Вы не понимаете, что мы из одного мифа тут же перебрались в другой? Троя, Карфаген, Спарта… Куликовское поле, Бородино, Бастилия… Крым, Соловки. Понимаете?
– Я не хочу в миф, – сказал Шлабуковский. – Я хочу в кроватку с шишечками. И рисованными амурами в голове. И чтоб я в пижаме… Тем более я не вижу никакой разницы между Крымом и Соловками. По-моему, Крым в момент прорыва туда большевиков и махновцев оторвало от большой суши, какое-то время носило по морям и вот прибило сюда. Публика примерно та же самая, только она забыла уплыть вовремя в Турцию.
– Вы, Шлабуковский, анархист и мещанин в одном лице, – сказал Мезерницкий. – Хотя, с другой стороны, кем ещё нужно быть, чтоб пойти в артисты.
Граков рылся в книжках на полочке.
Василий Петрович сидел за столом и задумчиво жевал – что-то не более травинки величиной.
Артём забрался с ногами на лежанку Мезерницкого, сняв сапоги, в которых было чересчур жарко, и внимал одновременно и Шлабуковскому, и владычке Иоанну, который только что всё-таки пригубил рюмку чего-то лилового.
– Церковь – человечество Христово, а ты вне церкви, ты сирота, – тихо говорил владычка Иоанн. – Верующий в Христа и живущий во Христе – богочеловек. А ты просто человек, тебе трудно.
Артём слушал владычку, и ему казалось, что голова его очищается, как луковица – слой за слоем… и сначала было легко, всё легче и легче, как будто он научился дышать всем существом сразу, и всё вокруг стало прозрачнее… но одновременно нарастала тревога: что там, внутри у него, в самой сердцевине – что?
Вот ещё одно слово владычки, для которого Артём был как на ладони – и вот ещё одно, и вот ещё третье, – а вдруг сейчас последний лепесток отделят – а там извивается червь? Червь!
Будто бы беду отвели – так чувствовал Артём, – когда Мезерницкий, похоже, умевший, невзирая на своё облако, одновременно и говорить, и слушать, вдруг оставил свою тему и перебил владычку:
– А я вот иногда думаю, отец Иоанн: какое христианство после такого ужаса?
Владычка Иоанн чуть устало, но очень миролюбиво посмотрел на Мезерницкого. Глаза у владычки были совсем засыпающие: умаялся, бедный.
– А первохристиане что? – спросил он негромко, но таким тоном, словно первохристиане только что были где-то здесь. – Их рвали львы. А Христа что? Его прибили гвоздями! А он – сын Бога! Бог отдал сына.