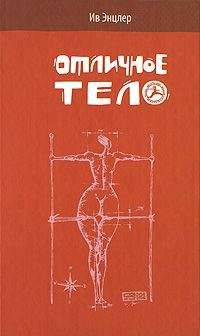В. Бирюк - Парикмахерия
Потан молча лелеял больную руку, изредка вскидывая на меня глаза и снова опуская их в пол.
– Речь идёт о тебе. Я тебе показал, что писать можно и левой рукой. Я могу — и ты сможешь. Научишься. Коли захочешь. Не захочешь… Я в этот год много поганок насушу. Чтоб тебе с избытком хватило. Выучишься — и быстро. И будешь службу мне служить. А я тебя научу, как руку исправить. Что — «чего»? Видел я — как вот такие дела лечатся. Своими глазами видал. Голову в заклад ставить не буду, но… видел. Это дело неспешное. Год. Сам понимаешь — даром тебя год кормить я не буду. Ты служишь — и руку лечишь. По подсказке моей. Думай. Утром — ответ. Всё. Час поздний — мужикам здесь спать ложиться, пошёл я.
– Постой. Помоги на постель подняться. Благодарствую. Чудён ты, боярич. Не прост. То от Велеса с серебром пришёл, то ведьму в болоте утопил. То вот… насчёт руки… Неужто вправду своими глазами видел? Э-эх… Согласный я. Будь по-твоему. И… спаси тебя бог, Иване. Спаси и сохрани.
Я выгнал из поварни мужиков. Опять уселись лясы точить. Полночи будут языками молоть, потом с утра глаз не разлепить. Хорошо хоть сказки сказывают, а не Кудряшкову бабу мнут да рвут. Домны… как бы это по-мягче… — опасаются. А бабёнка и рада — от Домны ни на шаг. То котлы отдраить, то щепы на утро нащепать. Не надо бы ей косаря в руки давать, ну да ладно.
Проехался Ивашке по ушам. Типа:
– А какой у нас на сегодня порядок несения ночных дежурств? А какие у нас пароль и отзыв?
Пришлось самому рассказывать — слов-то таких здесь нет. А понятия — есть. Так что и мне есть чему поучиться. Чарджи со Светаной не наблюдаются. Ну, естественно — где-то в лесу кусты мнут. Звяга сначала на Кудряшкову по-облизывался. Потом увидел перед носом кулак Домны. И сразу пошёл спать. Молодец — правильно понял. Домна на своего Хохряковича посмотрела… и тоже спать погнала — парень никакой после покоса, глазки слипаются. Ну, вроде всё — можно и мне на боковую.
Напоследок, обходя подворье, за углом сарая с нашим барахлом, вдруг в темноте наскочил на маленькую беленькую фигурку. Любава. Наложница-заочница. У Руссо есть «Общественный договор», а у нас, на Руси — «Общественный приговор». Нас с тобой, девочка, уже приговорили. Тебя — к роли наложницы, меня — к роли «рычага».
– Ты чего в темноте шастаешь? Иди к бабам спать, поздно уже.
– Ваня… ой. Господине. Дозволь повиниться.
– Господи! Давай. Только быстро.
– Господине, роба твоя виновна в том, что подслушала разговор твой с батюшкой. Нет-нет! Я не нарочно! Я там просто мимо проходила! А вы так громко говорили, а крыши-то нет, а я-то как услыхала… вот.
Я там чего, много чего-то лишнего сказал? Потаня остаётся у меня, причём — тиуном. Вроде повышение. Руку есть надежда восстановить. Чего там ещё было?
– Ты, господине, сказал батюшке, что ежели бы ты свистнул… то я сама к тебе на… на шишку залезла.
Ё-моё! Совершенно не учёл отсутствие звукоизоляции. И свободу перемещения. Идиот! Сказано же: «и у стен есть уши». И у тебя, Ванька — тоже. Есть уши. Которые сейчас горят малиновым цветом. Хорошо, что в темноте не видно. «Ради красного словца не пожалеет и отца» — русская народная мудрость. Причём не указано — чьего именно отца не пожалеет. И прочих родственников его.
– Любава… Тут… Ну, ты сама понимаешь…
– Свистни.
– ??
Обычно я соображаю нормально. В смысле: быстро, глубоко и многонаправлено. Ну, я же не просто так — Ванька, а о-го-го! — эксперт по сложным системам. Но временами такой тупизм накатывает… Чего-то похожее из Бёрнса лезет:
«Ты свистни — тебя не заставлю я ждать,
Ты свистни — тебя не заставлю я ждать,
Пусть будут браниться отец мой и мать,
Ты свистни, — тебя не заставлю я ждать!»
Это к чему? Чего-то я не очень… «что ты имела ввиду?». Или она именно про это?…
– Свистни. Пожалуйста.
– Ты с ума сошла! Ты…
Она, как стояла до сих пор с опущенной головой, так и сделала шаг, обхватила меня поперёк туловища, воткнулась мне в солнечное сплетение и зарыдала. Какое счастье, что она маленькая. Это их семейное боевое искусство с удушающим захватом за шею…
– Ну не реви ты. О господи, да тише ты. Весь двор слушает. Давай-ка вот в пустой сарай. Успокойся ты, наконец.
Едва я, с плотно прижавшейся ко мне Любавой, перешагнули через порог в чуть большую темноту бескрышного сарая, как девчонка, не переставая рыдать, принялась изображать взрослую, страстную и многоопытную женщину.
Да в бога душу мать! Я и в мирное-то время предпочитаю сам. И раздеваться, и раздевать. А когда эта рыдающая сопливка пытается одновременно одной рукой придавить меня за затылок, «дабы соприкоснуться устами», другой — рвёт на мне опояску, третьей — пытается сдёрнуть с меня штаны… Одновременно поправляя съезжающий на нос платочек, задирая подол своей рубашонки, впихивая мои ладони во всякие свои укромные места и организуя из сваленных конских потников подобие «ложа страсти»… Восьминожка восьмирукая. Я отбивался изо всех сил. Мы дружно пыхтели, сопели, ойкали и издавали прочие непотребные звуки. Я, кроме того, ещё ругался, а она уговаривала. Типа: не боись, больно не будет.
Здоровая девица. Цепкая. Как и положено быть человеческому детёнышу. Кто не имел сил удержаться на бешено прыгающей по ветвям и лианам мамашке, тот потомства не оставил. Слабые ручонки препятствуют, знаете ли, передаче генного материала. Что и отражено в отечественном фольке фразой известного анекдота: «Куда ж ты, с больными руками, замуж собралась?».
Так что хватка у младенца — быстрая, автоматическая и по усилию — запредельная.
Кстати, пока мы тут возимся, из личных историй.
Сели как-то мы, четыре мужика, самогоночки попить. В избе. У хозяина на попечении дитё. Ещё не ходит, но уже ползает. Хозяйка куда-то подевалась. Малыш миленький такой. Мы и пустили его по полу ползать. Пол чистый, сквознячков, вроде, нет. Пусть ребёнок погуляет. Мы своё дело делаем — потребляем да разговариваем, дитё — аналогичное своё. То гукает, то пукает, то хныкает, то туда-сюда ползает. И тут как-то тихо стало. Тишина при наличии ребёнка — сигнал тревоги. Точно. Дитё уселось на пороге и выкрутило, пока мы по стопочке пропустили, из порога шестисантиметровый шуруп, которым этот порог был прикручен к полу. Прикручен заподлицо, до упора, отвёрткой, всем усилием здорового мужчины — хозяина дома. Дитё выкрутило голыми руками. Точнее — маленькими нежненькими детскими пальчиками. А вот в рот его тянуть не надо было — хорошо — успели поймать.
Хватка у Любавы не меньше. Куда круче, чем у пневматического шуруповёрта. Что радует — во мне шурупов нет. Но остановились мы только в однозначно воспринимаемой сторонним наблюдателем позиции. Она — на спине, рубаха — на горле. Я — на ней. Между её ног. Без банданы, без рубахи, без пояса и сапог. Главное — штаны сумел сохранить. Она, похоже, засомневалась — чего дальше по сценарию должно быть. Тут я её руки и ухватил, наконец. Сильна красавица. Но против предводителя уелбантуренных белых мышей — терпелка слабовата. Предчувствуя неизбежный крах своих нескромных поползновений, она снова разрыдалась. Оплакивание и изнасилование — два принципиально разных процесса. В одном лице одновременно не совмещаются. Я позволил себе рискнуть и слезть. Отпустить и отползти. Комары, блин, всю плешь искусали. Тут где-то моя бандана завалялась.
Своё барахло я довольно быстро нашёл. А эта даже и не сдвинулась. Лицо рукой закрыла и рыдает тихонько. И всем этим своим… белым в темноте светит. Как подсветка взлётно-посадочной в аэропорту. Комары так и заходят на посадку. Эскадрильями. Типа: американский авианосец в завершающей фазе выполнения боевой задачи. Пожалел ребёнка — подошёл, рубаху одёрнул.
Нет, это — наследственное. Я — про боевое искусство. В смысле захвата за шею. И — душить. Теперь я вот на чем-то… лошадином сижу. Удила? Стремена? Трензелей и вензелей здесь ещё быть не должно. Но что-то очень ребристое. А она у меня на груди калачиком свернулась и плачет. Интересно, с какого момента в жизни женщина перестаёт понимать слова «нельзя»? Или это у них вообще с рождения?
– Слушай, Любава, уймись. Ты ещё маленькая, тебе в эти игры ещё рано играть. Понятно?
– У-у-у… Я тебя, дурня деревянного, люблю-у-у!
– Не морочь голову. Ни себе, ни мне. Маловата ты для таких слов. Звон слышишь, а смысла не понимаешь. Детство это в тебе играет. Хочешь как большая быть. Старшим подражаешь. Вот и лепишь без толку. Обезьянничаешь, играешься. Как в куклы.
– Нет! Вот и неправда твоя! Я в тебя сразу влюбивши! По-настоящему! По-большому! По-взрослому! Как в первый раз увидала!
– Гос-с-споди! Да перестань ты ручьём рыдать! Вся рубаха промокла. Вырастешь — найдёшь себе хорошего парня. Нормального, работящего, доброго. Женитесь, детишек нарожаете. Будете жить долго и счастливо. Да ты про меня и не вспомнишь. Сама над собой смеяться будешь. Ну как можно влюбиться в такого урода как я? Тощий, лысый, бестолковый. Из родительского дома выгнанный. Злой. Меня же не зря люди «лютым зверем» зовут.