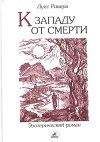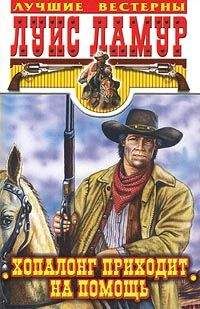Йен Макдональд - Бразилья
А вот и она. Сидит на стене, куда ярче всего падает свет с футбольного поля. Видит грузовик, который покачивается в потоке огней, и подскакивает от неосознанной радости. Маленький рюкзачок подпрыгивает за спиной. Эдсон не может отогнать воспоминание о ее трусиках «Привет, Китти». Грузовик катится по парковке мимо битого стекла и груды стали, наваленной в ресторанном дворике заброшенного торгового центра, взвизгнув тормозами, останавливается под фонарями.
– Удачно ты место выбрал, – говорит Фиа. – С одной стороны футболисты свистят, с другой – алкоголики и наркоманы.
Затем она подбегает и, стоит Эдсону сойти на асфальт, тут же с силой целует его, поднявшись на цыпочки. Может, это облегчение, может, горячка успеха, может, его покидает коражозу, но Эдсону кажется, что прожекторы на футбольном поле льют на него дождь из света: фотоны, настоящие и призрачные, барабанят по спине и плечам, очищают его, мягко подпрыгивая на грязном бетоне, спутанные с другими жизнями, с другими историями, словно клубок пряжи в лапах котенка. Город и его десять тысяч зданий кружат вокруг, Эдсон в этот самый момент на стоянке мертвого торгового центра стал осью всего Сампа, всей Бразилии, всей планеты во всех воплощениях мультивселенной.
Фиа проводит пальцем по боку грузовика и останавливается у большого круглого отверстия. Наклоняется, чтобы заглянуть внутрь через эту дыру. Эдсон знает, о чем она думает. «Я там умерла».
– Сзади открыто, – говорит он.
Память – предательница, Иуда. Сколько раз Эдсон вспоминал, как грузовик выглядел внутри, но сейчас, когда Фиа находит выключатели и врубает освещение, оказывается, что диван стоит не там, он больше и другого цвета, кофе-машина находится с противоположной стороны барной стойки, на подставках для ног обивка под зебру, а не ягуара, а винтовая лестница выполнена скорее в стиле кунфу-китча, чем гуанчжоу-киберкула. Тем не менее Эдсон чувствует себя так, будто он на первом свидании пригласил Фиу в свою квартиру. Она ходит среди мебели, касается, гладит, очарованная следами, которые ее пальцы оставляют в пыли на пластиковых поверхностях.
– Как странно, очень странно. Здесь я чувствую ее намного сильнее.
Она переводит взгляд на пластиковый куб, висящий над головой, ахает от удивления и поднимается по винтовой лестнице. Эдсон наблюдает за тем, как она бегает по мастерской, пробуждая одно за другим квантовые ядра. Голубое свечение квантовых точек, размотанных по вселенным, подчеркивает рельеф ее японских скул. Когда он был тут в первый раз, то видел призрака, явление в пустой мастерской, квантовое эхо.
– Ребята хотят перегнать грузовик внутрь. Снаружи небезопасно.
Фиа машет рукой: как угодно. Слегка высовывает язык – настолько сосредоточенна. Эдсон хватается за стойку, когда грузовик приходит в движение, а Фиа по инерции покачивается.
– Эту штуку хоть сейчас можно в художественной галерее выставлять. – Она говорит так, словно потеряла голову от любви, не может подобрать слова от восхищения, – Четыре квантовых ядра. И она собрала его из… мусора? Этот компьютер опережает на пару десятков лет ту систему, что стоит в моем университете. Он словно из будущего прибыл. Он прекрасен в каждой своей части.
– Можешь запустить его?
– У вас другой язык и протоколы, но я могу перекодировать.
– Будет работать?
– Посмотрим.
Она скидывает свое длинное пальто. Татуировка на голом животе поблескивает отраженным квантовым светом. Шестеренки внутри шестеренок на коже начинают прокручиваться. Фиа чувствует на себе пристальный взгляд Эдсона:
– Не беспокойся, это всего лишь эффекты для красоты.
Она стучит по клавишам, наклонившись к синему свету. Хмурится, двигает губами, читая то, что написано на экране. Эдсон никогда не видел ее такой красивой.
– Находит общий канал связи. Ох! – Фиа вздрагивает, улыбается, словно от удовольствия. – Да, мы вошли. – Она стучит по клавишам, по ее коже бегут мурашки от движущихся шестеренок. – Да! Да! Давай, сука! – Она хлопает по столу. Грузовик останавливается, как будто услышав ее. Фиа вскидывает руки вверх. – Что я сделала?
Голоса отражаются от голых стальных балок гниющего центра. Незнакомые Эдсону голоса. Он бежит вниз по винтовой лестнице и осторожно высовывает голову через дыру, прорезанную квант-ножом. На него смотрит блестящий черный визор шлема. Под визором улыбка. А еще ниже ствол штурмовой винтовки. Визоры, визоры. Грузовик окружен вооруженными, одетыми в бронежилеты охранника-мисегуранса. Задние двери прицепа распахиваются: еще двадцать вооруженных человек. Улыбающийся машет пушкой в сторону выхода:
– Выметайся наружу, фавеладу.
6—15 августа 1733 года
Толпа всегда собиралась ради маятника. Фалькон кивнул зрителям, пока регулировал башню телескопа и заводил часы. Детские крики, подчеркнутые более низкими голосами мужчин, для которых все это было в новинку, нараспев приветствовали его. Фалькон с помощью пассажного инструмента посмотрел на Юпитер, поднимавшийся над линией деревьев, и отметил восхождение на деревянной дощечке. Завтра нужно будет переговорить с Зембой, чтобы тот раздобыл еще бумаги. Обсерватория, которая служила Фалькону заодно и библиотекой, и домом, располагалась в пяти минутах ходьбы по лесным тропам от киломбо. Деревья здесь срубили, чтобы был доступ к ночному небу, и образовавшаяся поляна пользовалась популярностью у парочек, которые хотели полюбоваться луной или мягкой лентой Млечного Пути. Взмахнув пером, Фалькон выбрал трех зрителей, чтобы открыли крышу и помогли с часами, телескоп требовал защиты от постоянных проливных дождей, приходилось ежедневно его смазывать, чтобы не дать плесени испортить точнейшие механизмы. Фалькон указал пером на девушку в первом ряду, на детском торсе которой уже виднелись женские груди.
– Как называется это небесное тело и почему оно так важно? – Фалькон уже освоил лингва-жерал в достаточной степени, чтобы изображать из себя ворчливого учителя, и этой ролью всецело наслаждался.
Девушка тут же вскочила на ноги:
– Аиуба, это Юпитер, у него есть луны, как и у нас есть луна, и луны – это часы.
Аиуба. Фалькон поначалу счел, что это почтительное обращение достойно его четырехкратного статуса географа и архитектора, доктора физики, архивариуса Сидаде Маравильоза и профессора университета Риу ду Ору: учителя, мудреца и звездочета. Правда, потом был чрезвычайно обескуражен, когда выяснил, что это слово на языке тупи обозначает его бледный бритый череп.
Он давно уже определил долготу по таблицам Кассини и выверил все свои часы Гюйгенса; сотни наблюдений, нанесенные женипапу на стены хижины, доказывали его теорию. Сейчас Фалькон проводил научную мессу, напоминание, что доказательства физики так же истинны в лесах Риу ду Ору, как и в парижских салонах. Он демонстрировал достоверность эмпиризма как себе, так и своим зрителям из числа игуапа, манао, кайбаше и беглых рабов. Теперь Фалькон редко вспоминал о Кондамине[219], исследование его соперника, возможно, стало главной темой обсуждений среди академиков, тогда как его сочинение с большой долей вероятности так и сгинет в этом лесу, однако конкурента высмеют, потому что его работа эмпирически не верна.
В своей обсерватории из бамбука и соломы Робер Фалькон провел свой величайший эксперимент и заявил: «Смотрите, вон какой он, ваш мир».
– Сейчас я буду наблюдать за спутниками Юпитера.
Огромная сфера, заметно сплющенная на полюсах, даже если смотреть в походный телескоп. На земле все так же, как и на небе.
– Принесите мне мой дневник наблюдений.
Девушка-кайбаше, хранившая записи, присела на колени перед Фальконом с журналом и резной деревянной чернильницей на кожаной подушечке. Француз отметил время, дату, условия наблюдения! Как мало бумаги осталось. По правде говоря, зачем вообще делать все эти отметки, если они представляют лишь малую часть правды? Иезуит, обезумевший от священного наркотика, намекнул на существование более глубинного порядка вещей, на то, что этот сжатый у полюсов мир – лишь один из огромной – возможно, бесконечной – череды миров, отличающихся друг от друга в большей или меньшей степени. Но как объективно доказать подобное устройство вселенной? Конечно, если речь идет о физическом явлении, то его можно описать математически. Серьезная задача для географа, стареющего в одиночестве, вдалеке от работ своих коллег. Такие записи займут все, что осталось от стены, заполонят весь пол. Кайша будет жаловаться, станет кидаться в него всякой мелочовкой, она – чистюля, гордится своим домом и не терпит его неряшливости.
– В Париже сейчас ровно одиннадцать часов двадцать семь минут, – торжественно объявил Фалькон. – Буду работать с маятником. По моему сигналу запускай часы.
Фалькон оттянул гирьку геодезического маятника, пока шнур не совпал с вписанной линией угломера. Затем отпустил гирьку и поднял платок, который Кайша стирала до целомудренной белизны для этой цели. Три руки опустились на пусковые рычаги хронометров. Маятник качался, отсчитывая время, пространство и реальность.