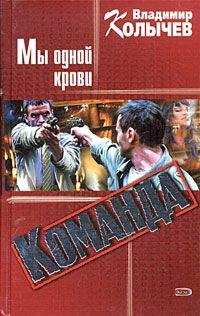Владимир Коваленко - Против ветра! Русские против янки
— …Итак, вы собирались покончить с собой, пусть и способом, который ваша разлюбезная католическая церковь не осудит… Что вы скажете Грейс, кэптэн? Наврете, что вернетесь?
— Правду, сэр. Что ухожу в бой.
— А смысл этого боя? Ну?
Такер задает вопрос Мецишевскому — но отвечает ему Алексеев. Капитанская привычка. Младший по званию привык, что командир — он. Вот и выручает бывшего подчиненного.
— Доказать, что мы и с гибелью «Александра Невского» не прижаты к берегам и портам, сэр. Подобная акция теперь, в свете открывшихся переговоров, может иметь значительный политический вес, сэр!
— Перебиваете старшего по званию, кэптэн? Мальчишка. Ваши эполеты доказывают ваше мужество и ваш талант, но не делают вас старше. Вы говорили о политике… Что ж, открою тайну — ко мне заглядывали из русского посольства. И особо просили, чтобы я помог пережить войну одному молодому человеку, который достаточно погеройствовал. Мол, после войны России пригодятся живые львы, орлы и прочая… геральдическая фауна. Догадываетесь, о ком шла речь? И я полагаю, что посланник имеет куда больше прав определять именно политику страны, чем простой капитан без корабля.
Алексеев тяжело, без наигрыша, вздохнул.
— Не хотелось приводить этот аргумент, — сказал, — но приходится. Я имею определенное право судить о выгоде Российской империи. И, если прижмет, шагать через рекомендации господина посланника.
Шагнул, протянул руку. Блеснуло золото.
Не взятка — маловато одной монетки даже для самого продажного адмирала. Но на этой монете был профиль.
— Николаевский червонец, — пояснил Алексеев. Или принц Евгений? — и я не намерен посылать людей на смерть. Только вести за собой. Кажется, этот образ действий соответствует понятию о чести морского офицера.
Суровый Джек оперся руками о стол, осмотрел исподлобья команду из иноземцев и штатских. Полированный дуб обиженно скрипнул.
— То есть все ваше отнекивание?
— Вам, сэр, понравилось бы, если б вас все считали бастардом? Пусть и высокорожденным? Получать незаслуженные чины и ордена? Или изображать простого офицера, когда — здесь или сейчас — нужен представитель династии?
А Такер-то в стол смотрит, не в глаза «мальчишки»! Наконец признает:
— Нет.
Это адмирал понять может. Легко. Всякий южный джентльмен — немного король, и главы хороших семей истинно по-королевски числятся под номерами. Уэйд Хэмптон Второй, например… Что интересно, эта молодая аристократия сосуществует с демократией, почти не пересекаясь. У джентльменов есть множество других дел, кроме как в выборах участвовать! Война — другое дело.
Адмирал опускается в кресло, притягивает лист бумаги. Ковыряет пером в чернильнице, словно там вместо чернил — желатин. Хотя… кто знает, из чего делают конфедеративные чернила? Пишет. Задумывается. Отодвигает бумагу.
— Если вы без толку свернете башку, это ничего хорошего не даст. Я хотел бы верить, что вы вернетесь, но — не бездоказательно. Итак, кэптэн, вводная: вы на мостике «Невского». Вас перехватывают два «Эйджинкорта». Ваши действия… На размышление — три минуты.
Так нечестно! Алексеев… павшие товарищи… Как можно ставить задачу, подразумевающую, что погибшие со славой — не справились? Но Евгений просит позволения закурить. Извлекает портсигар, нож, спички… Движения неторопливы и точны, словно все мысли посвящены раскуриванию гаванской сигары. Вот дым повалил, словно крейсер на экономический ход вышел. И наконец слова:
— Какой у меня боекомплект?
— Ваш обычный.
— Мой? Отлично. Значит, держусь на дистанции, на которой броня еще держит, как можно дольше. Заряд — двенадцать, возвышение на максимум, снаряд — шрапнель с дистанционной трубкой.
— Что? Шрапнель? На море?
— Угу. У «Эйджинкортов» часть пушек на палубе, сверху не закрыта. А еще у них нет боевых рубок… Когда броня начинает трещать, разворачиваюсь и иду на пистолетный выстрел. Добивать или тонуть — ну и надеяться, что отвернут.
— Безумие… — но бумагу к себе притянул. Небрежно черкнул закорючку. — Номер шестьдесят четвертый — ваш. Не продаю, так что поднимете флаг Конфедерации. Лодки — ваши. Капитан — Мецишевский, старший по званию. Командир флотилии подводных лодок — Ханли. Командует операцией — временный полковник армии КША Алексеев… Временное морское присваивать некогда. Обойдетесь сухопутным!
Дело сделано.
Только теперь придется идти к Грейс. Она ирландка, она поймет. Мужчина должен уходить — в море или на войну. А вот…
— Евгений, а что ты скажешь Берте-«Ла»?
— Ничего… Я ее не видел неделю. А раз наше оружие — лодки, то мне завод Уэрты не понадобится.
— Но кроме завода?
Алексеев останавливается. Медленно, по складам, выговаривает:
— Ни-че-го. Она сказала: «Нет». Я намерен уважать ее решение.
— Даже если выйдешь в адмиралы? Получится — союзники точно тебе лавровый венок на воротник предложат.
— Она ясно ответила, Адам. И количество шитья на рукавах тут ничего не значит.
На переделки — одна ночь. Изменить шлюпбалки, переделать тали, протащить паропроводы от машины к установленным вдоль бортов вместо пушек компрессорам — лодки сжатым воздухом «бункеровать». Палубу подкреплять не приходится — отдачи у компрессора нет. Из гавани исчезли затемно. Зато рассвет встретил стремительное суденышко в открытом океане, одинокое и свободное, гордое свежей надписью на белоснежном борту: «Гаврило Олексич».[11] Это вместо планового «Чикахомини».
И вот — снова буруны за кормой, ветер в лицо, враг — впереди. Снова все ясно и понятно… не то, что на берегу. Даже то, что на берегу. А что неясно — можно спросить. Вот мистер Ханли и спрашивает. Интересно ему…
— Капитан, так вы и правда… сын царя?
Мецишевский делает вид, что сосредоточенно разглядывает волны прямо по курсу. Словно его начавшийся разговор не касается вовсе и ушей у него нет.
— Насколько мне известно, нет. И, по правде говоря, жить с клеймом «цареныша» мне совсем не хочется. Но какой у меня был выбор? Либо — спустить врагу смерть товарищей, позволить затянуть удавку на шее союзника… и пустить слухи, что меня берегут. Либо — сыграть на головы с сильнейшим противником — но свою игру… и пустить слухи, что мое влияние слишком велико для простого капитан-лейтенанта. И что должен выбрать человек чести?
Ответом стало рукопожатие:
— Мне нравится ваш подход, сэр! Впрочем, иначе меня бы здесь не было…
Уходит — в сотый раз проверять рукотворных рыб, инструктировать пилотов. В последний момент один из американцев все-таки заболел осторожностью, и его заменил русский доброволец. Изобретатель ему уделяет тройное внимание — но разве оно заменит полсотни настоящих погружений?
А на мостике начинается новый спор славян между собою. Командующий соединением сложил руки на груди — жест спокойствия, — но пальцы молотят по предплечьям… Нервы.
— И все-таки зря ты с нами пошел. Что будет с Грейс, если ты не вернешься?
— Не зря. Я неплохо помню свои чувства после… того письма. Общество мистера Ханли — не лучший вариант для мужчины, который сомневается в собственной правильности. Того и гляди потянет на подвиги. Что теперь — лишнее. Со всех сторон.
Алексеев дотрагивается до звезд на вороте серого сюртука. Мягкий жест, нежный… да он его от мисс ла Уэрты подхватил! Неужели у них все кончено?
— Дело не в подвигах. Дело в том, что я… Думал только о себе. А нужно было — о ней. Нет! Вру, — рука Евгения словно комара на щеке припечатала. — О себе и о ней — вместе. И не в том смысле…
— А в этом: как два человека могут ужиться и остаться каждый — собой. Вот почему меня Грейс отпустила? А потому что знает — ей не нужен муж, который не ушел бы с оружием в зеленые поля моря. Сражаться за себя и друзей. Мы ведь, кажется, не просто сослуживцы и товарищи по Корпусу?
Кивок.
— Ну и как я мог не пойти с тобой? Для чего нужны старшие возрастом друзья? — пожимает плечами Мецишевский. — Быть рядом! Подсказать. Убедиться. Вот за этим я и иду — убедиться, что с Евгением Алексеевым все в порядке. Кстати, если ты дозволишь англичанам нас утопить — то не в порядке. Тогда придется брать за загривок, как котенка, и вытаскивать.
— Адам, вспомни наши походы. Всегда на волоске!
— Так, на волоске. Но ты замечательно умеешь заниматься гимнастикой на волоске и бегать по лезвию. Настолько, что будь ты цирковым артистом, тебя б уволили, не заплатив за пару последних выступлений.
— Вот как? — он не улыбнулся. Наоборот, подпер лоб щепотью. — Неужели ты хочешь сказать, что я бы не рисковал?
— Не хочу. Рисковал бы. Но так, что публика не волновалась бы. Совсем.
Над мостиком — хохот. Заливистый. Громкий. Потому Хорэйс Ханли прерывает инструктаж и сообщает: