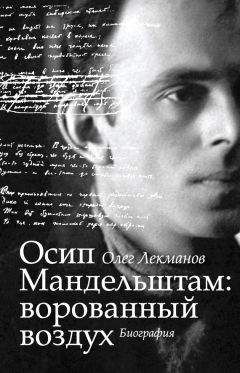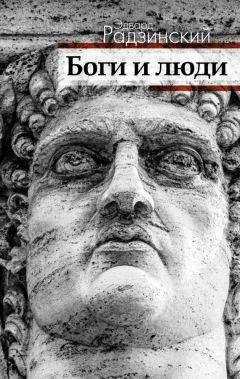Олег Радзинский - Агафонкин и Время
Сто процентов за “напряженку”. Неплохо.
Я жил в ДВС бесплатно, питался со старухами, почти не тратил денег. Только по выходным. В выходные завтракал в общей столовой, садился на 20-й автобус или маршрутное такси 587 и ехал до станции метро “Новогиреево” – желтая ветка. На грязно-серых колоннах из мрамора – красные звезды в синем орнаменте по периметру. Как погоны моего отца: звезды на синем фоне. Только его звезды были золотыми.
Мне казалось, звезды на синем фоне – тайный знак, отзвук моего прошлого, подтверждающий, что в Новогирееве я на правильном месте. Мы, якуты, – суеверный народ.
Тогда я не знал, что настоящим знаком был мой обычный маршрут по выходным: желтая ветка до “Третьяковской”, затем переход на оранжевую “Новокузнецкую”, осторожно двери закрываются, следующая остановка “Китай-город”. Мой путь лежал в Китай. Тогда я не знал. А и знал бы – что б это поменяло? Можно ли вообще что-то поменять?
Мансур верил, что можно.
Мы сидели в большой комнате – в углу, на коричневой тумбочке, старый телевизор. В картонном ящике под круглым столом, застеленным клеенкой, сложены игрушки. Я постеснялся спросить чьи: возможно, Агафонкин был раньше женат, и жена покинула его, забрав ребенка. Агафонкин не рассказывал про свою жизнь ничего, кроме того что путешествовал во времени. И этого хватало.
Мне не нравились московские зимы: сырость, грязь, снег серыми клочками – старая вата – вдоль тротуаров. Пар от людей в метро. То ли дело зима в Якутии: чистый, вымороженный до синей пустоты, до звенящей хрупкости воздух: тронешь – сломается. Пустая тайга – снег выше пояса, пройти можно только на снегоступах – коротких широких округлых плетенках из ивовых прутьев. Прикрепляешь к валенкам на резинках – и пошел по любому снегу. Охотники покупали снегоступы из пластика: дольше служат. Но я не охотник, да и денег у меня не было: мы с отцом жили на его пенсию.
Мои снегоступы смастерил дядя Дормидонт. У него не было ног ниже колен: съела проказа. Он ездил по длинному, узкому, застеленному порванным сизым линолеумом коридору нашего барака на маленькой деревянной платформе с колесиками, которую сделал сам. На улицу его выносили только летом – когда растает. И то на крыльцо или рядом: тяжело нести. Сажали на тележку лицом к впадающей в озеро протоке, и он сидел на своих обрубках, мотая головой из стороны в сторону и слушая текущую внизу воду.
Ранней весной, пока ива по берегам протоки не поросла длинным острым узким листом, с обрыва можно было видеть бурулган: омут, вертящийся у места, где скорая протока впадала в медленное течение Вилюя. Если пройти к большому камню и, забравшись на него, встать прямо над бурулганом и смотреть вниз, не отрываясь и не моргая, протока могла показать твою будущую жизнь. Меня научила этому Л.
Я никогда не смог увидеть будущую жизнь, хотя подолгу стоял на шершавом, поросшем мхом камне, смотря на бешено крутящийся внизу бурулган. Возможно, я моргал. Или что-то еще. Что мешало мне увидеть будущую жизнь.
В снегоступах, кстати, есть неудобство: они не прокладывают лыжню. Ступаешь по снегу, скользишь, где можешь, но лыжни не остается: слишком большая площадь давления. Поэтому трудно возвращаться, найти дорогу домой. Так и я: ушел в снегоступах по времени, по чужой Линии Событий – не вернуться.
Да и зачем: мой дом здесь. Здесь и сейчас. Как говорил Агафонкин – здесь-сейчас.
Пространство Минковского.
Агафонкин пришел в Дом ветеранов сцены морозной февральской ночью. Я удивился – что ему нужно на работе в мое дежурство? – но ничего не сказал. Предложил чаю, он согласился, пить, однако, не стал. Долго сидел молча, держа кружку и разглядывая меня, щурясь, словно от яркого света, хотя голая матовая лампочка под потолком освещала дежурку слабо. – Иннокентий, – наконец спросил Агафонкин, – еще не забыли монгольский?
Проговорили всю ночь. Агафонкин объяснял существо времени – бесконечная лента настоящего, однажды запущенный ролик, – я слушал и пил чай с бергамотом. Этот чай я покупал на свои деньги: большая коробка – сто пакетиков, 225 рублей. Уходило за месяц: мы, якуты, пьем много чая.
Я плохо понял агафонкинское объяснение и поначалу испугался, что он сумасшедший. Или наркоман – нанюхался, обкололся и рассказывает про свои глюки.
Меня убедило, что он знал про меня все. Все. Словно прожил мою жизнь – невидимая тень, всегда за спиной: обернешься и не увидишь, потому что опять за спиной. Словно бегал со мною по поселку офицеров в Чойр-2, качался на качелях с Леной Голубевой (что с ней стало?) и сидел рядом на жесткой лавке с белой маской на лице в “уазике” санитарной службы 243-й авиационной дивизии 23-й Воздушной армии Забайкальского военного округа, когда сержант Целенко вез нас с отцом к поезду с закрытым вагоном особого назначения. Будто прожил со мною девять лет в Аhаабыт Заимката и слушал по вечерам, как старый Михай из большой – на десять человек – палаты в конце коридора играет на хомусе и тянет, подпевает, подвывает вибрирующей варганной мелодии:
Уруннуурэ дьиэлэрбэр
Урумэччи боуолларбын
Харалыыра дьиэлэрбэр
Харангаччы боуолларбын
– Что это за песня? – спросил Агафонкин. – Я, когда смотрел вашу Линию Событий, прослушал ее множество раз, но смысла, конечно, не понял. О чем пел Михай?
О чем пел Михай? “Уруннуурэ дьиэлэрбэр” – женская песня. Девушка обещает любимому:
В белом-светлом доме моем
Бабочкой бы стала я,
В черном-черном доме моем
Ласточкой бы стала я.
То есть какой бы ни был дом, не удержишь – улечу. Обычная женская история. Мне ли не знать.
Уруннуурэ дьиэлэрбэр…
– Зачем я вам нужен, Алексей?
В белом-светлом доме моем…
Агафонкин засмеялся. Он был похож на молодого Брэда Питта с вьющимися каштановыми волосами и влажными зелеными глазами.
– Иннокентий, – сказал Агафонкин, – как правило, мне удается объясниться с людьми в разных эпохах даже при отсутствии общего языка. Потому что они меня ожидают: хранят предметы – Объекты Выемки, данные им либо их предкам, и знают, что однажды за ними придут. И расплатятся за службу. Или ожидают Доставку. Одно из двух. В этом же случае мне нужно забрать Объект Выемки – юлу – у человека, который ничего не ожидает: с ним не было уговора на хранение. К нему пришел посторонний человек – Мансур – и дал юлу. Теперь являюсь я и требую ее отдать. Сложная ситуация; поэтому я предпочитаю иметь рядом кого-то, кто и выглядит, и говорит привычно для нынешнего хранителя юлы. Вы – моя страховка. Поможете объясниться, заберем юлу и обратно. Вернемся в тот же момент, откуда отправились. Никто и не заметит.
Врал? Знал? Планировал? Очень даже может статься. Я теперь никому не верю. Кроме Бортэ.
– А как с ним объяснился Мансур?
Харалыыра дьиэлэрбэр…
– Мансур? – Агафонкин отпил чай и поставил кружку на место – не понравилось? – А почему бы вам не спросить его самого? – Он обрадовался своей мысли, хотя, конечно, обдумал все заранее: – Приходите в гости, Иннокентий. Посидим, поговорим.
В черном-черном доме моем…
Мне понравилась Квартира: пустая тишина, простор, мало мебели. Мансур – в старых спортивных, лоснящихся от заношенности штанах и неподходящей к ним клетчатой рубашке – долго молчал, рассматривая меня, затем позвал Агафонкина на кухню и что-то ему сказал. Я услышал обрывок фразы “…как вариант”.
Может, тогда у Агафонкина и родился план?
Бабочкой бы стала я. Ласточкой бы стала я.
Не стану: отращивать крылья – для женщин. Наше дело – строить им дома, из которых они потом улетят.
Мансур поздоровался и спросил, хочу ли пить, есть. Я не хотел, но знал, что отказываться невежливо.
– Черный, без сахара.
– Сахара все равно нет, – грустно сказал Мансур. – Раньше Митек закупал, а теперь Алексей ни о чем не заботится. И денег не дает на хозяйство.
Кто такой Митек?
– Тебе дай, – покачал головой Агафонкин. – Ни сахара потом, ни чая. Ни тебя. Сам куплю, когда будет время. – Онвзял мою облепленную снегом куртку и повесил на вешалку в темноватой, с неровными стенами прихожей. У шкафа с раздвижными дверьми, где, должно быть, висела одежда хозяев, стояли высокие кавалерийские сапоги, какие я видел в кино про старую – досоветскую – жизнь. Агафонкин заметил мой взгляд, но ничего не сказал.
Мы сели в большой комнате: Мансур у застеленного клеенкой стола, я на диване. Агафонкин остался стоять, переводя взгляд с меня на Мансура и обратно. Все молчали. Квартира тоже молчала, только кран в кухне – кап. Кап-кап. Кап-кап-кап-кап. Кап. Было неудобно держать в руках чашку с чаем, а поставить – не на что. Так и сидел с чашкой в руках.