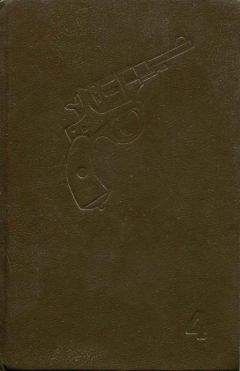Станислав Гагагрин - Страшный суд
Охотник передернул затвор, освобождая патронник, дослал новый заряд и удовлетворенно хмыкнул. Он понял, что попал в цель, еще до того, как первая его жертва без стона и суетливых жестов рухнула на гранитные ступени Дворца республики.
Второй пулей старый писатель — он опять целил в сердце, но завысил прицел и попал в шею, разорвав сонную артерию — второй пулей он убил так и не сменившегося с поста Стива Донелли, рыжего здоровяка из Арканзаса, которому теперь никогда не удастся снять русскую девочку за пятерку «зеленых».
Его напарник, вертлявый полукровка, в коем смешалась кровь пуэрториканки и прибывшего из Сицилии мафиози, звали его Саймоном Вазачо, быстрее других сообразил неладное и метнулся внутрь здания, которое прислали его охранять с других берегов Атлантического океана.
Старый писатель послал ему вслед третью пулю, но Саймон оказался резвее, успел прошмыгнуть за дубовую дверь, и пуля расщепила ее, деревянной занозой повредив полукровке щёку.
Чертыхнувшись, Мастер примерился к одному из тех оставшихся двоих, которые метались на открытом месте, размахивая пистолетами и безумно вопя от понятного страха, ничего не умея объяснить толком прибежавшим в тревоге местным милиционерам.
Но слово «террорист» уже возникло в сознании тех и других, оно прозвучало в воздухе, разнеслось по телефонам и воплотилось в приказ, который получил молодой лейтенант, недавний выпускник Ленинградской школы милиции, прибывший на отработку в родной город…
— Давай на чердак, Дима, — сказал ему начальник охраны правительства, куда лейтенанта определили на службу. — Ты у нас шустрый… Начни с дома напротив!
А террорист меж тем пытался поймать в прицел оставшихся в живых американцев, но сделать это было трудно, их то и дело закрывали мечущиеся по ступеням Дворца милиционеры, санитары удивительно быстро подоспевшей «скорой», выскочившие из здания чиновники и просто зеваки.
Барри Шеридан он достал-таки пулей в бедро, а Джиму Картеру продырявил череп вместе с голубой каской, отбросив былое стремление стрелять захватчиков только в сердце.
Других иноземцев на площади не было видно, и старый писатель отложил пустой карабин.
Проделанная работа была трудной, но только физически трудной. Ни угрызений совести, ни раскаянья в собственном сердце Мастер не находил.
«А вот косулю было жалко», — подивился старый писатель.
Когда Дима-лейтенант с макаровым в руке тыкался в перекрытия чердака, старый писатель спиной почувствовал, как подбираются к нему с тыла, и потому сменил позицию, не забыв вложить в магазин вторую обойму.
Из-за кирпичного прямоугольника трубы он увидел молоденького милиционера с пистолетом, смешно вытягивающего шею в попытках разглядеть что-либо в хаосе балок и чердачных креплений.
Дима не видел разыскиваемого террориста.
Зато бывший охотник, пусть глаза его и ослабели с возрастом, хорошо различал еще мальчишескую, угловатую фигуру милиционера, он уверенно и прочно держал Диму на мушке и готов был выстрелить, и промахнуться не было никакой возможности, но старый писатель, убивший иноземных солдат, не мог выстрелить в этого, пусть и вооруженного, пусть и явившегося убить знаменитого земляка желторотого вороненка.
Его палец лежал на спусковом крючке карабина, но Мастер даже не попытался ни разу ласково потянуть за него…
А Дима неожиданно исчез.
Лейтенант шестым, звериным чувством он ощутил, как целятся в него из карабина, хотя и не видел охотника.
Дима, крадучись, где сгибаясь в три погибели, где попросту на карачках, снова зашел сочинителю в тыл, и едва рассмотрев его приземистую фигуру, застывшую с карабином, выстрелил в спину недоумевавшего писателя два раза.
Когда Дима-лейтенант перевернул труп к себе лицом, и осветил фонариком, он сразу узнал, кого поразили пули.
— Как же так, — громко воскликнул плачущим голосом Дима. — Мне ведь про террориста говорили… Кого же я убил!? Террорист, мне сказали, прячется на чердаке… Террорист!
Но старый писатель был еще жив. Мастер услышал последнее слово, пожалел, что не сочинит уже рассказ с ёмким таким заголовком, улыбнулся праздной неисполнимой теперь идее.
И умер.
VIIIГород Хмельницкий в прежней Державе назывался Проскуров.
Это был уездный городишко Подольской губернии почти на двадцать три тысячи аборигенов, причем слабого полу, в Проскурове находилось на четыре тысячи шестьсот пятьдесят одну даму меньше, нежели представителей не лучшей части населения земного шара.
В семнадцатом веке здесь, на низменной долине реки Плоской, впадающей в Буг, на окружающих городок возвышенных холмах, потому заинтересовавший нас географический пункт и назывался поначалу Плоскуров, в этих плодородных местах прокатилась казацкая смута, и край был значительно опустошён и разрушен.
Но в 1795 году, в том же году, когда в далеком отсюда Кенигсберге философ Кант сочинил трактат «К вечному миру», Проскуров, заменивший в имени букву, присоединился к России.
Спустя сто лет на сорок процентов проскуровцы были евреями, а остальная часть состояла примерно поровну из католиков и православных.
Один костел, две церкви, восемь синагог и еврейских молитвенных домов, двухклассное городское училище — вот и все духовные университеты.
Сахароваренный завод, пара мукомольных предприятий, три завода растительного масла, три кирпичных завода и четыре заведения минеральных вод при двух городских типографиях да еще кое-какая мелочь — вот и вся промышленность города.
Потом случилась революция, с нею пришли игры в суверенитеты вплоть до отделения, и богатая черноземом и подземными ключами Подольская земля перешла от интернационалиста Ленина к националисту Пилсудскому, увы…
В тридцать девятом году Подолию справедливо вернули России, а после войны город стал областным центром и называли его теперь уже именем славного Богдана, который лихо порезвился в этих краях, спасая собственный народ от местных ломехузов, создателей Антисистемы — по Гумилеву! — для геноцида украинцев.
История не сохранила версии, почему пал выбор на Хмельницкий, были, верно, были некие астрономические расчеты, но именно здесь, в окрестностях города, на холмах, окружавших Плоскую речку, разместили дивизию баллистических изделий.
Состояла дивизия в Винницкой армии и после беловежской измены автоматически оказалась для России за кордоном.
Присягу на верность «самостийной и незалежной» офицеры-ракетчики РВСН не принимали, они однажды уже поклялись в верности Великому Союзу, приказы и получку по-прежнему получали от подмосковной деревни Власиха, где размещался Главный ракетный штаб, но заложниками дуроломной политики «першего гетьмана», а в прошлом секретаря ЦК, сидевшего на крючке ущирых отделенцев, хмельницкие и другие повелители грозных изделий, размещенных на южно-русских землях, заложниками они стали, это точно…
Сведущие люди знали, что ни Киеву, ни Жмеринке с Бердичевым, ни, тем более, Одессе, ни одну ракету со штатного места не запустить. Ракеты управлялись из России, а «самостийники» элементарно блефовали, хотя ракеты им, конечно же, полагалось передать, так ведь оно и было оговорено в дни предательского развода.
Но кто из обывателей Великого Союза, а ныне пошлого конгломерата непонятного сорта ублюдочных государств, понимал-разбирался в системе управления Ракетными войсками стратегического назначения?
А дуремары с висячими усами и оселедцами на макушке, разодетые в расшитые крестиком дюже патриотичные рубахи нагнетали и нагнетали страхи, морочили головы мировому сообществу и собственной избирательской массе, щекотали днепровской амбицией таких же, как они сами, кремлевских охлократов, сравнявшихся количеством извилин с бабулею Тортиллой.
Жизнь проскуровских, волынских и донецких, ныне не залежных вильных граждан становилась все беднее, а шантаж вокруг боеголовок с урановой начинкой разгорался жарче.
Кто сказал, что и незаряженное ружье раз в год обязательно стреляет? А когда патроны в стволах, а за курок то и дело лапают обалдевшие от безнаказанности пальцы, то рано или поздно неумолимый Рок врежет седовласым шалунам по пальцам, ну и по башкам их безмозглым, разумеется, тоже…
Когда я узнал, что в Хмельницком украли боеголовку, то ни единому слову неумной сей байки ни капельки не поверил.
Немедленно позвонил Геннадию Ивановичу, день был субботним, заместителю моему и директору «Ратника» по идее полагалось находиться дома, но Дурандин уклончиво послал меня в баню: это означало, что через полчаса я должен ждать его у гарнизонного помывочного учреждения.