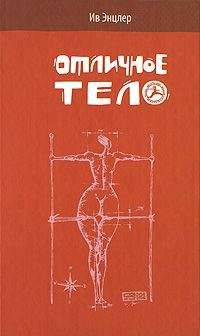В. Бирюк - Парикмахерия
Скромница прикрыла хвостиком подола промежность и, оставив для моего лицезрения свои ножки от пяток по ягодицы включительно, ещё пару раз качнула ими. Чуть сводя колени. Уменьшая этим движением мой обзор и создавая причину для не осознаваемого, но ощущаемого волнения: «А ну как все закроется и закончиться?». Но её колени снова чуть раздвинулись. Будто приглашая: «Пока не поздно. Количество билетов ограничено».
Нет, не то — кинематически логично, эстетически неправильно. Тайна потеряна. Элемент неопределённости, пространство для фантазии. То есть, для местных это, наверное, «ну вооще!». Но когда каждый день на всю страну по всем каналам гонят пляски разных «поющих трусов»… Ах да, не пляски — песни. Это — пение? Так и запишем: «всенародная прививка от порнографии и потенции произведена песенным путём». Ну вы же знаете как делают прививку — вводят в организм ослабленный штамм болезнетворного микроба. Бледное подобие. Потом приходит настоящий, а уже… не интересно.
Тем временем, Светана, не заметив с моей стороны никаких явно выраженных поползновений, кроме всё более и более выпучиваемых глаз, перешла к откровенно доходчивому инструктированию: её ручка сначала погладила сквозь тонкую ткань низ живота, затем, перевернувшись ладонью кверху, поманила меня пальчиком. Лёжа на том самом месте. Круче — только вот так и — свистнуть в два пальца. «Свистать всех наверх!». Ну, можно и наверх.
В чём разница между мужчинами и бандерлогами? В количестве шерсти. А, ещё бандерлогов подманивает только мудрый Каа, а мы… А потом — «змея подколодная», «гадюка домашняя»… Хотя по продолжительности удушения, заглатывания и переваривания — всё-таки удавы ближе. Гадюки — это, обычно, быстрая смерть, долго мучиться не придётся.
Совершенно по-детски шмыгнув носом из-за откуда-то на такой жаре взявшихся соплей, и пробормотав что-то пейзанистическое типа: «Эта… ну… тогда конечно… раз зовут, то…», я подчинился помановению дамского пальчика и направился к призывному… ну, пункту.
В каких, всё-таки, твёрдых правилах воспитывают здешних женщин! Какие они все… богобоязненные и целомудренные! Настоящее святорусское воспитание, исконно-посконное. Никаких вольностей. Вместо того, что бы рвать на мне одежонку и лезть в штаны потными руками, Светана, убедившись, что я правильно встал на колени в правильном месте, не начала длинно и нудно рассказывать инструкцию о необходимости снятия штанов, технологии безопасного секса и гармонизации личной и мировой психических энергий, а спокойно улеглась на спинку и стала наслаждаться умиротворяющим шелестом листвы над головой. В просветах между ветвями было видно небо. Редкие бегущие по нему облака навевали ей, вероятно, сентиментальные детские воспоминания.
«Облака — белогривые лошадки.
Облака, что вы мчитесь без оглядки?
Не смотрите вы, пожалуйста, свысока,
А по небу прокатите нас, облака».
Нет уж, бывал я в этих облаках. Там мокро и холодно. И заниматься там чем-нибудь подобным… Так что пусть уж «смотрят свысока».
Я, конечно, понимаю, что в такой позиции большинство женщин в первый раз думает: «Интересно, я ему нравлюсь?», а потом, довольно скоро: «Пора, пожалуй, и потолки побелить». Но меня, как соучастника процесса, такое равнодушие несколько… раздражает. Даже — обижает. Хотя… Именно эту манеру поведения и вбивают в здешних. И церковь православная — «грех сластолюбия», и казарменные, по сути, условия жизни. С ноября по апрель — 10 человек на 20 квадратах в одном помещении. Среднестатистически. Так что: «лежи молча». «Терпи», потому что нравиться «это» не может, получать удовольствие — извращение и греховность. И «не ори — детей разбудишь». Которые, естественно, не спят.
Впрочем, у Светаны уже был опыт не только законного мужа. Да и сам я мальчик активный. Она охнула в первый момент. Оторвавшись от созерцания «белогривых лошадок», взглянула на меня с мимолётным интересом и, очевидно, в порядке выражения «пылающей страсти» и «любовных восторгов», обняла меня за шею. Точнее — придушила. Вы когда-нибудь пробовали заниматься любовью в условиях, когда сильная женская мозолистая рука прижимает ваше лицо к старой рубахе небелёного полотна, пропитавшейся сегодня потом явно уже не первый раз? И постепенно сдвигает в сторону подмышки, где ещё не высохло мокрое пятно. Причём под рубахой чувствуется мягкая женская грудь. Которая отнюдь не — «о какая!». Поскольку используется в качестве затычки всех путей. И дыхательных, и слыхательных, и глядетельных. Выдохнуть туда ещё можно, а вот вдохнуть…. Воздуха! Господи, да не умею я дышать с другого конца! И запах… «Запах женщины». Только не в кино, а в носу. Да кто ж против! Но с концентрацией же надо и меру знать!
Так, пока не дышится — старый анекдот:
«Клуб «Кому за тридцать». Дама снимает мужичонку, приводит домой и смущённо сообщает:
– Я в эти моменты… сильно потею.
– Да плевать — у меня насморк.
Посреди процесса мужикашка вдруг вскакивает и кидается распахивать форточки.
– Что, так сильно пахнет?
– Нет. Просто глаза режет».
У меня — не режет. Я их закрытыми держу. Только один раз и открыл. От неожиданности. Когда она меня за ягодицу ущипнула. Типа: давай парень, не спи — работай. Типа: я тут вся «страстью сгораю», а ты дрыхнешь. Да я бы не против. Но мне же для этого двигаться надо! А когда за шею заякорили насмерть… Мадам! Ход моего плунжера ограничен вашим фиксатором! Отпустите мою голову! Я же ей работаю! Даже в такие моменты. Ё…!
Для произведения физической работы у меня осталась только нижняя часть тела.
«Поднимая ветер тазом
Познакомишься с экстазом».
Или наоборот:
«Не бывать тебе в экстазе
При малоподвижном тазе».
Я попытался дёрнуться, как-то освободиться… Ванька, засунь своё свободолюбие в… в куда и остальное засовываешь. Против простых русских женщин ты, со всем своим попаданством, со своей сверхскоростью, сверхэрудицией, и, даже, сверхвыносливостью…
«Бедная, угнетённая и бесправная селянка в порыве жаркой любви придавила юного, но уже многообещающего, прогрессора до смерти. Одновременно применённые гаррота из горячей женской плоти и газовая камера с аналогичным наполнителем, не оставили ему никакой надежды на спасение. Снимите шляпы и почтите минутой молчания».
В какой-то момент до меня дошли посторонние звуки. Воспринимать человеческую речь через толщу женской груди… Что я, фонендоскоп какой-то? Ничего не понятно. Но мощь захвата несколько снизилась, и я смог, продираясь носом через все эти… прелести, повернуть голову. Передо мной, шагах в пяти, стояла Любава. Она в совершенном ступоре рассматривала мою тощую голую задницу, ритмически качающуюся между белых ляжек её матери. Светана, заметив, что ребёнок её не слушает, с досады снова ущипнула меня. А когда я несколько резко задёргался, успокаивающе похлопала по ущиплённому месту, и продолжила инструктирование дочки.
– Ты скажи там, Николаю этому, чтобы вещи наши сложили в том сарае, который поцелее. Ну, где этот безногий и батя твой лежат. Их пусть в другое место перенесут. А наше — туда. И вот, боярича всякое чего — тоже туда же. А Домне передай: боярич велел воды натаскать да согреть. Я волосы промыть хочу. Ну не резать же их, в самом-то деле. Что я, лярва эта бессловесная? А Чарджи скажи…
Тут она несколько неуверенно взглянула на меня. Вид моего полурасплющенного лица на своей груди её успокоил, и она продолжила:
– Скажи, что те бусы красненькие, которые я у него… поносить взяла, у него боярич Иван выкупит. За добрую цену. Ну, беги детка. Да скажи стряпухе, что я сильно прожаренных — не люблю. И ещё…
Но Любава рванула с места в карьер, не дожидаясь завершения монолога матери. Мы оба проводили мелькающее между деревьями белое полотно детской рубахи. Потом продолжали. Точнее, я и не прерывался. Ритмические, чисто автоматические похлопывания свободной руки Светаны по чему-то там, попавшемуся под ладонь, то есть — по моей кормовой части, не давали мне особенного много свободы. Но ритм меня устраивал и, даже, постепенно ускорялся. Другой рукой она, ухватив меня за подбородок, несколько развернула мою голову, чтобы было удобнее разговаривать.
– Чего? Нравится девка моя? Вижу, нравится. Ну и славно — она вся в меня, вырастет — такой же красавицей станет. Не соня, не лентяйка, не неряха какая. Умница, рукодельница. Она тебя и накормит, и обиходит, и в постель уложит. И в постели завсегда ублажит. Счастье. Я её всяким бабским штучкам учу. И по хозяйству, и для постели — чего мужикам надо. Только она ещё не выросла. Ещё годик бы подождать. Не, можно и сейчас, но я ведь внуков по-тетешкать хочу. А нынче — ты ей сразу всё порвёшь-разворотишь, и детишек не будет. А подождёшь — она тебе кучу деток нарожает. Сыновей здоровых. Как я Акиму. Только он, дурак старый, нос стал воротить. А ты-то умнее. И не старый. Аким-то помрёт — имение тебе отойдёт. А кому ж ещё? Ольбегу с этой… боярыней? Да я Чарджи только скажу — он из неё дурость-то выбьет. А брюхо-то — набьёт. И будешь ты — господином всего. А мы — при тебе. Любашка — сударушкой. В доме, в опочивальне управляется, тебя радует. А я так, по усадьбе, с дворовыми кручусь. Да деток ваших лелею. Родной-то глаз — крепче присмотрит. И заживём ладком. Как у Любашки что надо вырастет — я сама её к тебе и приведу. Сам-то не лезь. Ну, там, подержаться, потрогать можешь. Но — смотри. А пока — я и сама могу. Да и потом, когда ей нельзя будет — постельку твою согрею. А то может и понесу от тебя. А что? Сразу и за внуками, и за детьми присмотрю — мне не в тягость. А хорошо бы. То я Акиму сыночка родила, а теперь — внучонка рожу. Эх, Ванюха, короток бабий век, вот это всё скоро состарится, обвиснет, никому ненадобное будет. Может, хоть с Любашкой повезёт, пристроить бы её в добрые руки. Чтоб она простой бабой не осталася, не горбатилась всю жизнь в грязи непролазной. И я — при ней. Ты чего? Ты вынимать-то не вздумай!