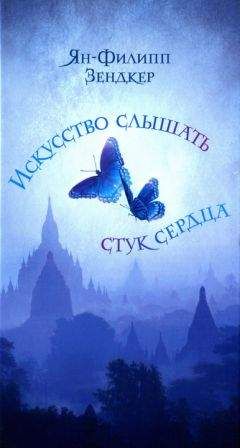Спаситель (СИ) - Прохоров Иван
– Томский разряд и так наш.
– Да! Верно! Наш! – закричали люди Истомы.
– Да? – Филипп растерянно поглядел по сторонам. – Тогда почему вы прячетесь в какой-то дыре, как мыши, а не сидите в Томском Кремле?
Рындари притихли, Истома снова принял на себя серьезный вид и задрал гордый свой подбородок.
– Говори!
Глава 28
Суббота
Ранним утром, еще засветло, свернули с моста на змеистый въезд двое груженых рыбой саней и долгой улиткой взбирались на взгорье к главным воротам томского кремля. Уже тронул розоватый свет пологие склоны и взошел за скованными изморозью елками золотистый утренний дым, когда крохотный обоз, наконец добрался до шестиметровых дубовых ворот.
Из первых саней лихо, несмотря на возраст выскочил иеромонах Филофей и дыша на руки густым паром деревянной от мороза походкой поспешил сообщить настойчивым стуком о прибытии преисполненных благочиния скромных служителей Божьих.
Под навесом дозорной башни показалась долговязая фигура. Филофей задрал голову и перекрестил ее. Тотчас за воротами послышалось движение тяжелых засовов, сами ворота отворились, за ними встречали их трое хмурых казаков с мушкетами, позади догорал дежурный костер. Филофей уже успел ссутулиться и старческой походкой вместе с санями вошел в острог, крестя по очереди каждого казака и повторяя негромкую скороговорку, в которой слышалось только: «храни Господи».
Затем Филофей остановился, с трудом разогнул «старческую» спину, устремил лицо наверх и умаслившимися глазами уставился на единственную маковку с крестом бревенчатой церквушки в центре острога.
– Господи Боже Святый, лепота-то какая! – воскликнул он, приложив ладони к груди. – Оутре крест Господень сияет в злате!
Казаки недовольно переглянулись.
– Ладно-ладно, давай ступай уже, – сказал один из них сквозь зубы.
Старик перекрестил его и поспешил к церквушке вместе с санями, на которых сидели четверо молчаливых монахов.
Где-то справа от ворот вдруг раздался гневный крик, а потом из-под тарасы выскочил упитанный пятидесятник Мурлов с глазами навыкате.
– Бакланов! – орал он, пуча глаза и тяжело дыша от бега. – Ты почто дрянь впускаешь без досмотру каво ни попадя!
– Досмо-о-отрено, – лениво протянул высокий казак, надевая извечную маску старослужащего, таящего ненависть на командиров.
– А ну как высеку, туес! Ты, гнида ленивая, как сюды попала вобче? Тебя ж присно в разъезды за капустой посылают! Идеж Востроганов?
– Хво-о-рый, – протянул казак, – велено заменить.
– А сии что за рожи?! Где Яшка-Сверчок? – пригляделся Мурлов к другим казакам.
– Хво-о-орые…
– Тьфу ты! С кем в караул застоятился! Сплошь чужеядье гниль непутевая! А ну удумайте мне токмо до оутре обосраться пред начальствием! Высеку! Шкуры спущу! – бесновался Мурлов.
Филофей, еще недалеко отошедший, остановился и обернувшись, виновато обратился к пятидесятнику.
– Не гневись, батюшка, – запричитал он, низко кланяясь Мурлову, – то наша вина, везем во поминовение Святителя Николая Чудотворца дары скоромные от архимандрита Варлаама.
Продолжая кланяться, Филофей откинул рогожу задних саней.
– Во-то глядучи. Зде и рыбица белая, и стерлядь, калушка, сомы и щуки, лещи сушеныя, осетрушки в мале, в коробах икоры для воеводы батюшки…
Немного успокоившийся Мурлов, махнул рукой и ругаясь себе под нос пошел обратно под мост, где была у него служебная коморка с печкой.
Между тем, острог оживал. Последние недели звонко стучали топоры, молотки, взвизгивали пилы работных мужиков, укреплявших мосты и ставивших новые клети-тарасы.
Вышедший после бессонной ночи на двор своих хором воевода поглядел на ходивших по мостам и крышам клетей мужиков, которых набрал еще покойный Бутаков.
Иван Иванович тяжело вздохнул – знал свое дело письменный голова. Не ловок был в делах государственных, но по хозяйственной части не имел равных. Но не хватало его воеводе еще и потому, что он давно знал Бутакова и считал другом. Тоскливо было и противно, будто мороз проникал и в душу. Осталось укрепить треть южной стены и последнее дело Бутакова уйдет в прошлое. Грустно. Воевода присмотрелся к мужикам на дальнем мосту. Те не ходили и не стучали молотками, а сидели нахохлившись, словно воробьи. Будто и они не желали скоро прощаться с последним делом письменного головы. Али не проснулись еще? В другие дни работнички еще засветло стучали молотками, да зычно, по-работному перекрикивались. И рожи-то все какие-то незнакомые.
Из-за спины возник неслышно верный Афанасьев.
– Иван Иванович, приготовить тебе узвару на клюкве, яко ты любишь?
– Не надобе, – отмахнулся воевода, направляясь к хоромам, – сработай лучше того цинского меду с мухоморами, от коего в уме легкое изумление бывати, а в теле живость родитися. Чаю день буде долгий…
***
Ровно в полдень в начале змеистого подъема перед главными воротами показались розвальни, на которых сидел Филипп. Он сам правил крепко сбитым коником. Понукаемый Завадским, конь шел спокойно, неспешно, легко втаскивая на взгорье несложный груз. Пройдя половину пути, Филипп натянул поводья. Все это время он не спускал глаз с крошечных фигур под обламом въездной башни. Теперь он узнал среди них Савку.
Завадский ослабил поводья и конь потянул его вперед. Следующая остановка – перед воротами. Савка стоял недвижимо, как статуя, глядел на него сверху и по лицу его ничего нельзя было понять. Справа и слева его сторожили стрельцы – один усатый, другой светлобородый, но они были так высоки, что верхние части их лиц скрывал навес. Хорошо видны на солнце были только их малиновые кафтаны и ружья на плечах.
Савка выглядел изможденным, но не раненым. Солнечный свет упал ему на лицо и на грудь и в этот момент Завадский уловил однократное движение его глаз – быстро стрельнул он ими в стороны. Филипп «ответил» медленным закрытием глаз и ослабил поводья. Ворота распахнулись, когда он подъехал, будто только его и ждали и коник спокойно повез Завадского на смерть.
Филиппа встречал помощник воеводы Афанасьев в окружении четырех незнакомых служилых. Один из них взял коня под уздцы. Завадский выбрался из розвальней и сунул коню под морду охапку сенца, прежде чем казак увел его к гостевой коновязи, огляделся. Острог выглядел буднично-сонным: из приказной избы вышла баба, плеснула в снег ведро грязной воды, и перекрестилась на деревянную церковь, по мостам и тарасам слонялись работники с пилами и топорами, по земле бегали собаки. У главных и воеводских хором топтались стрельцы. Завадский прищурился.
– Воевода тебя дожидаючи, – сказал ему Афанасьев, – идем.
– Все в порядке?
– Да.
Филипп улыбнулся и кивнул.
Выглядел помощник воеводы невозмутимым, но как будто немного напряженным – словно непрофессиональный актер, хорошо заучивший роль, но страшащийся сделать что-то не так.
К главным хоромам его с Афанасьевым сопровождали казаки, а по лестнице они уже поднимались вдвоем. Завадский не мучал Афанасия расспросами, только прислушивался. В доме было необычайно тихо, словно он был пуст, но как прекрасно знал Филипп – это было невозможно при любом развитии событий.
У дверей в главную воеводскую комору Афанасьев отошел в сторону. Завадский постучал.
– Входи! – раздался голос воеводы – такой же зычно-неестественный, как у его помощника.
Завадский вошел, воевода поднялся из-за стола, но подходить не решился – остался стоять у окна.
Филипп посмотрел на абсолютно чистый пол, на то место перед столом, где на персидском ковре должен был лежать труп Карамацкого. Ни капельки крови. Ни малейших признаков борьбы.
Воевода резко втянул воздух, будто хотел сказать что-то, но не решился.
– Слабость свойственна людям, – с печальной улыбкой констатировал Завадский, поднимая взгляд от ковра на воеводу, – однако худо, когда ее проявляют наделенные властью.
В это время в коридоре зазвучал тяжелый топот множества ног, стук палашей и сабель, задевающих стены и косяки. Дверь распахнулась от мощного удара и первым в комнату влетел Савка, который тотчас опрокинулся и упал между воеводой и Завадским.