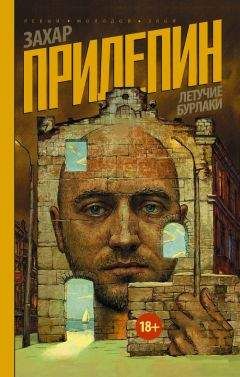Обитель - Прилепин Захар
– Кто руководит наукой? – быстро ответил Эйхманис. – Буржуазная интеллигенция и бывшие контрреволюционеры. Кто играет в театре? Они же. Кто организует занятия в клубе, кто организует воспитательную работу в кружках, кто читает лекции?..
Эйхманис отвернулся от Горшкова и завершил мысль, глядя в глаза Артёму:
– Это не лагерь, это лаборатория!
Проснулся Артём ночью с тем замечательным чувством, когда ты не знаешь, где спишь, но помнишь, что ничего страшного, кажется, не происходит – и даже напротив.
В хате была полутемь, но через минуту Артём смог различить глаза Казанской Божьей Матери, не моргая наблюдающей белую ночь.
Переступив через Митю и Захара, пошёл во двор. Заслышав шум, сразу проснулся и сел Кабир-шах: в полумраке были заметны его напуганные белки.
“…Сияет, что твоя Казанская, нехристь”, – иронично подумал Артём, а вслух сказал:
– Это я, спите. Ночь ещё.
У Горшкова опять светилось окно, похоже, приоткрытое: голоса доносились очень явственно – кто и что говорит, было так сразу и не понять, зато частый хохот был различим: это Эйхманис смеялся – лающе, резко, будто издевательски.
Забыв, где тут отхожее место, Артём помочился на угол. “Как собака…” – подумал, зевая.
Голова была особенно ясная: выпитое не застаивалось в теле – копал, потел, много пил воды, а под вечер даже искупался, хотя вода была по-осеннему холодная…
…На обратном пути вздрогнул: возле хаты стоял отец Феофан. Если б тот не прикурил свою трубочку, Артём так бы и прошёл мимо: настолько монах напоминал что-то не совсем живое, вроде, к примеру, дерева.
“Чёрт, неудобно, – подумал Артём. – Наверняка слышал, как я тут… на угол… Кто мне мешал отвернуться и поссать на траву? Ей-богу, придурок”.
– Доброй ночи, – хрипло сказал Артём и убил на щеке комара.
– Доброй, – спокойно ответил бывший монах.
– Слушайте, отец Феофан, – обрадовался Артём, что с ним разговаривают, и сам тут же простил себе своё скотство – молодость легка на такие штуки. – А Эйхманис – правда он ищет клады?
– Разве то секрет? – ответил старик. – Ищет везде. Все Соловки уже перерыл. И здесь ищет. И спрашивает у меня, где лучше искать.
– А что ты сам не нашёл, отец Феофан? Раз советы даёшь – так поискал бы.
– А зачем мне? Я никуда отсюда не собираюсь. Вынешь золото на свет – оно с тебя спросит, зачем ты его достал. У меня и другого спроса хватает. А Эйхманис спросу не боится. Пусть себе ищет.
– Феофан! – крикнули из окна хаты надзирателя – и Артём узнал по голосу Горшкова.
В то же мгновение Артём догадался, что старик только что вышел из горшковской хаты – как бы покурить, но на самом деле хотел сбежать к себе, так как тяготился ночным общением с чекистами. От старика веяло не соловецкой ночью, а человеческим бодрствованием, и одежда его пахла не воздухом и вечером, а людьми и вином.
“…Как собака, – снова успел подумать Артём, – всё чую, как собака…”
– Ай? – откликнулся отец Феофан.
– С кем ты там гутаришь? – спросил Горшков и высунул башку в окошко.
– Заключённый Артём Горяинов! – подумав, ответил Артём и тут же отчётливо разобрал, как Эйхманис внятно произнёс где-то за спиной Горшкова: “Пусть оба идут!”
– Оба сюда! – скомандовал Горшков и шумно вернулся за стол – послышалось дребезжание посуды, кто-то с грохотом сдвинул несколько стульев.
Ничего не сказав Артёму, Феофан смиренно побрёл к хате Горшкова.
Ведомый только хорошими предчувствиями, Артём вернулся за рубахой к своей лежанке и, одеваясь на ходу, поспешил вслед за стариком. Благо тот оставил дверь открытой – а то было б неловко, чертыхаясь, лезть в чужой, тем более чекистский дом – там, на пути, обязательно попалось бы какое-нибудь бесноватое ведро, хорошо ещё, если пустое, а не с хозяйскими помоями.
Горшков жил скудно: печь посреди избы, возле печи кровать, но, судя по тому, что на полу, едва не возле дверей, было тоже постелено, сегодня хозяйское место занимал Эйхманис. За исключением стола и стульев, из мебели имелся только сундук. Над окном висела связка сухой рыбы, над кроватью – шашка и часы на гвозде с тем расчётом, чтоб лёжа можно было дотянуться до них.
Эйхманис сидел во главе стола – нисколько, несмотря на смутные ожидания Артёма, в отличие от Горшкова, не уставший и не обрюзгший от ночного пьянства – но, напротив, будто бы ставший чуть более резким и быстрым и во взглядах, и в движениях. Горшков со своим набыченным медленным видом и тугими щеками явно не соответствовал начальственному настрою.
– Придумал ответ? – спросил Эйхманис отца Феофана.
– У меня их и не было, Фёдор Иванович, ответов-то, – сказал монах.
– Пролетариат лучше Христа, – быстро, будто бы не слушая отца Феофана, сказал Эйхманис. – Христос гнал менял из храма – а пролетариат поселил тут всех: и кто менял, и кто стрелял, и кто чужое воровал… Революция такая, революция сякая, а где огромная правда, которую можно противопоставить большевистской? Сберечь ту Россию, которая вся развалилась на куски, изнутри гнилая, снаружи – в вашем сусальном золоте? Кому сберечь? Зачем?
Эйхманис быстро обвёл глазами всех собравшихся, и Артём спокойно встретил его взгляд.
– Соловки – прямое доказательство того, что в русской бойне виноваты все: что, ротные и взводные из “бывших” – добрей чекистских? Артём, скажи? А то Феофан не знает.
– Все… хороши, – сказал Артём с продуманной паузой.
Горшков тряхнул тугими щеками и в который раз уже с бешенством посмотрел сначала на Артёма, а потом на Эйхманиса: как смеет этот шакал?.. – но Эйхманис на взгляд Горшкова снова не ответил.
Он молча и не моргая смотрел на Артёма.
Артёму на мгновение почудилось, что глаза у начлагеря совершенно безумные: в них нет ничего человеческого. Он перевел взгляд на его руки и увидел, что запястья у начлагеря не мужицкие, а будто бы у музыканта, и пальцы тонкие, а ногти – бледные, стриженые, чистые.
– А чего ты не налил ему? – спросил Эйхманис Горшкова. – Налей, он гость.
Горшков, не глядя на Артёма, придвинул ему бутылку и стакан, зацепив и то, и другое в одну руку с жирными и почти красного цвета пальцами без ногтей.
Эйхманис ухмыльнулся.
Феофан смотрел в стол.
Артём налил себе на большой глоток и сразу же выпил.
На блюде лежала неровно порезанная сельдь – пахла она призывно и трепетно. Артём не решился дотянуться к ней, но странным образом почувствовал родство этой сельди с женскими чудесами… Такое же разбухшее, истекающее, невероятное.
Даже губу закусил, чтоб отвлечься.
– Недавно в Финляндию сбежал один – из полка, – с какого-то своего, одному ему понятного места продолжил Эйхманис. – Тут же отпечатали книжку, на русском языке, ты подумай… Мне Бокий привёз только что, – пояснил Эйхманис, коротко взглянув на Горшкова. – Пишет эта мразь в книжечке своей, что за год мы тут расстреляли шесть тысяч семьсот человек. Там, наверное, барышни падают в обморок, когда читают. Мы можем и шесть тысяч, и шестьдесят шесть расстрелять. Но тут в тот год всего семь тысяч заключённых находилось! И кого ж я расстрелял? Три оркестра, два театра, пожарную роту и питомник лисиц? Вместе с лисицами!
Артём подумал-подумал – и дотянулся до пирога, лежавшего на блюде возле Горшкова.
Пирог оказался с капустой: пышный и сладкий, у Артёма, кажется, даже мурашки по телу пошли от удовольствия.
Следом всё-таки ухватил ломоть сельди и забросил в рот: о-о-о. Жевал, с глазами, полными восторга.
Горшков проглотил слюну и тяжело выдохнул: “Не нажрался ещё?” – говорил его вид.
“А то тебе мало”, – подумал Артём.
– Пишут ещё, что здесь мучают заключённых, – продолжал Эйхманис, будто бы не замечая происходящего за столом, но на самом деле очень даже замечая. – Отчего-то совсем не пишут, что заключённых мучают сами же заключённые. Прорабы, рукрабы, десятники, мастера, коменданты, ротные, нарядчики, завхозы, весь медицинский и культурно-воспитательный аппарат, вся контора – все заключённые. Кто вас мучает? – Эйхманис снова посмотрел на Артёма, и тот сразу перестал жевать, не от страха, а скорей тихо и ненавязчиво валяя дурака. – Вы сами себя мучаете лучше любого чекиста!