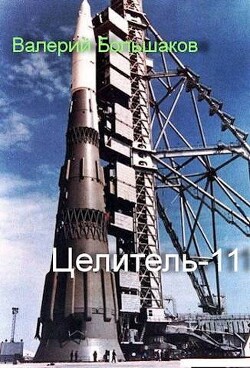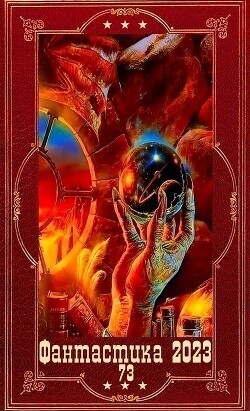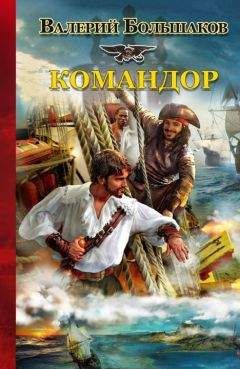Целитель 12 (СИ) - Большаков Валерий Петрович
— Наташка, не забывай — моему сознанию тоже девяносто лет!
— Миша, да быть такого не может! — по-дружески возмутилась девушка. — Ты пятьдесят восьмого года рождения, в две тыщи восемнадцатом тебе было шестьдесят лет. Так ведь? В этом возрасте твоё сознание перенесли в семьдесят четвертый год. Прошло ещё пятнадцать лет, и сейчас твоей личности, твоей душе должно быть семьдесят пять, а никак не девяносто! Правильно?
— Ну-у, вроде да… Просто я суммировал свой нынешний возраст с прошлым.
— А зачем суммировать-то? — озадачилась Наташа. — Твоему телу тридцать один год, а сознанию — семьдесят пять, ты ещё вполне крепкий старик, Розенбом! И перестань выковыривать мармелад из курабье! — заворчала она. — Вон уже четвёртую печенюшку испортил…
Ивернева снова подлила мне кофе, и хихикнула, наблюдая за моим шаловливым взглядом.
— А ещё… М-м… Что я хотела спросить? А! Ты так и не ответил мне, что тебя реально заставило согласиться на… э-э… «ауто-транс-плантацию сознания», — высказалась она, сцеживая себе остаток кофе. — Подогреть?
— Не надо, — мотнул я головой, — микроволновка вкус крадет.
— Ты прав… — девушка сделала большой глоток, и повела чашкой. — В общем, складывается впечатление, что желание спасти Марину Исаеву для тебя было решающим.
Я задумался.
— Знаешь, Наташа, через четыре года Спилберг снимет кино про немца, который выкупал пленных… Так он спас жизни тысячи двухсот человек. Не скажу, что фильм потряс меня, но в нем прозвучала фраза, которую я запомнил: «Спасший одну жизнь, спасает весь мир». Так вот, спасти СССР и спасти Марину для меня было как бы одним и тем же.
— Коль ха-мекайем нефеш ахат кеилю кайям олам кулё, — проговорила Наташа нараспев.
— М-м… — завис я. — Что ты сказала?
— То же, что и ты, — расплылась девушка в улыбку, — только на иврите. Перевод не совсем дословный, но смысл — тот. Рабби как-то рассказывал мне эту историю… Звали немца Оскар Шиндлер, а эта фраза выбита на вратах Яд Вашема в Иерусалиме.
— Так ты выучила иврит, чтобы читать кумранские свитки⁈ — изумился я. — Ну ты даёшь, мне бы точно не смочь!
— Ой, да что тут такого, — отмахнулась девушка, — иврит совсем не сложный, просто необычный.
— А скажи ещё что-нибудь!
Наташа сладко улыбнулась.
— Анú охэвет отхá.
— А что это значит?
— Я тебя люблю.
— Анú охэвет отхá… Я правильно сказал?
— Произношение верное, но так говорит женщина мужчине, а тебе надо сказать: «Анú охэв отáх!»
— А-а… Кажется, понял… В иврите окончания личных местоимений… второго лица… зависят от рода?
— И это тоже…
— А что ещё?
— Женщины и мужчины любят по-разному…
Наталья гибко встала. Поднялся и я, ощущая странное напряжение в мышцах, что прорывалось слабой дрожью. Было такое ощущение, что сознание мало-помалу уступает чему-то иному — властному и совершенному, высшему и светлому… Или это подавленный разум сам себя утешал?
— Мне никто больше не нужен, только ты один… — еле вымолвила девушка. — Я не могу без тебя… Миша, ты же сам говорил мне, что нас очень мало, человек пятнадцать на шесть миллиардов. Это ничто, да и то половина не подозревает даже о своих реальных способностях. Чем больше нас будет, тем больше людей мы сможем исцелить…
— Наш дар, Наташенька, еще и проклятие наше, — язык плохо слушался меня, иные слова надо было угадывать. — Особенно для женщин. В средние века попы жгли на кострах таких, как ты, именно потому, что они исцеляли близких и дальних, истощая свои жизненные силы, настраивая против себя толпу и церковь. Мужчины-то более эгоистичны, они расходовали свою Силу очень скупо, с оглядкой на будущее. И они выживали, вот только дети их не наследовали отцовского дара — этот признак рецессивный, а комплиментарных женщин извели…
Все эти лишние словеса мерещились мне последним усилием холодного разума, но горячая душа затапливала его, одерживая победу.
— Я — твоя женщина! — вытолкнула девушка, делая шажок навстречу.
А я будто опростился, начав жить ощущениями, зато ярчайшими. Но сознание тоже не покидало меня, бездумно свидетельствуя.
Мой взгляд жадно следил за тем, как Наташкины соски набухают, буравя ткань, вот и ручки мои шаловливые потянулись — девушка поспешно расстегнула блузку…
А дальше великий, могучий русский язык утратил всякое значение. Как, какими словами описать то, что было между мной и Наташей? С чем сравнить сверхоргастическое наслаждение, длившееся долгие, нескончаемые минуты? Словно прибой, когда накатывает волна, как у всех людей, только выше и мощней, а затем обрушивается снова и снова, и ты изнемогаешь от сладострастия, ты выгибаешь спину, задираешь голову, словно для истошного крика, но лишь хриплый шепот срывается с губ…
«Das ewig weibliche zieht uns hinan… Вечная женственность влечет нас ввысь».
Квинтэссенция любви…
Там же, позже
Лидия Васильевна с Настей ушли «выгуливать» Максима Ивановича, а Рита с облегчением осталась дома, в тишине и покое.
«Иваныч» — очень милый, симпатичный малыш, но в нем столько жизненных сил, что выматываешься за полчаса «активного общения».
«Вампиреныш! — улыбнулась девушка. — Всю энергию выпил!»
На квартире у Мишиной мамы ей было спокойно — поклонники пока не прознали об этом адресе. Правда, за порог лучше не выходить…
Словно уловив ее мысли, вяло тренькнул дверной звонок.
Как всякий опытный борец с известностью, Рита прокралась в прихожку, и осторожно глянула в «глазок». Перед дверью стояла Наташа, зареванная и несчастная.
— Что случилось? — тревожно спросила Гарина, затаскивая гостью в дом. — Что… Что-то с Мишей⁈
— Нет-нет! — замотала головой Ивернева, и слезы снова полились из горестных синих глаз. — Мы не хотели, честное слово! — запричитала она, давя рыдания. — Это я, я во всем виновата! Я догадалась, что так нельзя, а уже поздно! Пригласила Мишу, хотела показать, как программа «Исидис» работает… И кофием угостить, по-бедуински! А я туда зелья положила…
— Зелья? — насторожилась Рита.
— Нет, нет! Молодильного! Вот! — нервно порывшись по карманам пальто, Наташа достала пробирку, заткнутую пробкой, и до половины полную тягучей золотисто-перламутровой жидкости. — От него только польза, и реальное омоложение — «зелье» подстегивает регенерацию тканей, синтез коллагена… А я, дура, взяла и добавила в кофе мускат и гвоздику! Нельзя же было! Ибо сказано: кто вложит в состав иное, или кто помажет им постороннего, тот истребится из народа своего. Так я ж дура! Вложила! А гвоздичное масло в комбинации с моим дурацким зельем сковывает разум и волю! Миша не мог противиться, просто не мог!
— Раздевайся — и успокойся! — велела Рита. — С Мишей точно все в порядке?
— Да-да! Просто он очень устал! Мужчины слабее женщин…
— Пошли на кухню, расскажешь всё с самого начала.
Полчаса и две чашки обычного кофе спустя Наташа затихла, облегчив душу. Вялая, она поникла, и лишь вздыхала прерывисто, да всхлипывала.
Гарина, стоя у окна, нежно улыбнулась, вторя своим мыслям.
«Мишечка ты мой, Мишечка! Испереживался, небось, родненький ты мой… А Наташка боится, наверное, глупенькая…»
Обернувшись, она перехватила испуганный взгляд Иверневой.
— Пошли, поможем Мише… — мягко молвила Рита, словно воротясь в недавнюю роль.
Наташа с готовностью вскочила.
— Но сначала… — затянула «Лита Сегаль», ловя в темно-синих глазах напротив мгновенную тревогу. — Но сначала ты мне продиктуешь, как готовить этот кофе… по-бедуински.
— Да-да-да! — выдохнула Ивернева, и резво протянула пробирку с зельем. — Шесть капель на двоих…
Записав рецепт, Рита накинула куртку с капюшоном, и спросила гостью, поспешно застегивавшую пуговицы на пальто:
— И… как у вас? Получилось?
Наташа страшно покраснела, и накрыла ладонями пылающее лицо. Мелко-мелко закивала, а в небесно-голубых глазах разливалось ликующее сияние.