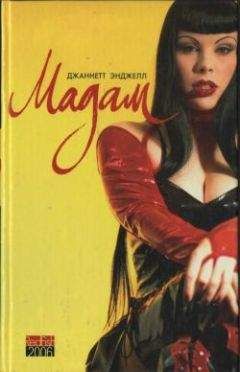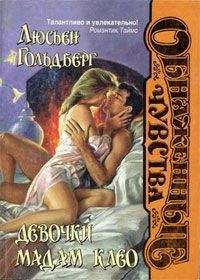Марина Друбецкая - Мадам танцует босая
— А-а, Эйсбар! — воскликнул Жорж, увидев Эйсбара. — Ну как, похож я на ваших ополченцев? С лакея снял, — пояснил он, отвечая на немой вопрос Эйсбара. — И, заметьте, отдал мальчонке собственную фрачную пару, совершенно безвозмездно!
Болтая, Жоринька застывал то в позе дискобола, то метателя копья, то закидывал руки за голову, то разворачивал плечи, то напрягал мышцы, демонстрируя идеальные сочленения и пропорции своего удивительного, словно выточенного резцом Праксителя, тела. Эйсбар молчал. А тот уже бросил кривляться и, схватив Эйсбара за рукав, тащил его за собой.
— С нами, Эйсбар, с нами! Веселиться! Хотел позвать Лизхен, да устыдился.
— Это вы-то? — насмешливо спросил Эйсбар.
— А что, я, по-вашему, не человек? — обиженным голосом заныл Жорж и тут же, наклонившись к уху Эйсбара, заговорщицки прошептал: — Да на черта нам Лизхен! Хорошо, подвернулся Долгорукий. Я ей говорю: «Мамуся, оставляю тебя в надежных руках!»
Открылась лаковая дверь, и Жоринька втолкнул Эйсбара в каюту. Внутри было почти темно. Лишь две настольные лампы горели в углах. На диванах и креслах валялись какие-то томные фигуры. Жоринька бегал от дивана к дивану, демонстрируя свою тунику. Потом повалился на ковер.
— Эйсбар! — крикнул он. — Что вы торчите, как Эверест! Садитесь!
Жоринька полулежал, согнув одну ногу в колене и бросив на нее расслабленную руку, а локтем другой руки опираясь о пол. Эйсбар опустился рядом с ним. За сегодняшний вечер он устал сопротивляться. Он хотел покоя — а покой для него: смотреть и взглядом трансформировать мир. Прищурившись, он скользил взглядом по телу Жориньки, распластавшегося перед ним с опытностью профессионального натурщика, и опытным глазом отмечал движения света и тени, углы и наклоны. Что-то ему не понравилось. Он потянулся, снял с низкого столика настольную лампу и поднес к лицу Жориньки, переместил лампу вправо, влево, поднял повыше, наконец поставил на пол. Лицо Жориньки осветилось странным светом, словно вспыхнуло в темноте. Он смотрел на Эйсбара диковатыми, белыми в свете лампы, глазами и ухмылялся.
— Хорошо, — прошептал Эйсбар. — Вот так. Хорошо.
— Говорят, вы получили высочайший подарочек, Эйсбар? — губы Жориньки змеились на лице, будто сделанным из папье-маше. — Ошейник? А вот вам подарочек с Олимпа!
И он сунул Эйсбару под нос тыльную сторону ладони, вымазанную белым порошком. Эйсбар хотел оттолкнуть его руку, но сделал непроизвольный вдох. В носу защекотало. Комната покачнулась и вмиг изменила очертания, став сначала восьмиугольной, а потом круглой. На голове Жоржа выросли маленькие рожки. На ногах появились копытца. Лицо сморщилось, и наружу хлопьями полезла седая борода. «Фавн!» — прошептал Эйсбар и захохотал, запрокинув голову и сотрясаясь всем телом. Он хохотал все громче и громче. Слезы лились у него из глаз. К горлу подкатывала икота. Тело стало легким, почти невесомым. Грудь распирало веселье. Теперь он точно знал, что все возможно, а раз так, то можно тоже все.
Глава 15
Все встречаются и расходятся
Раздался гудок, бомбошки на бархатных портьерах запрыгали — поезд тронулся. По перрону бежал Метелица и махал им вслед крошечной ручкой. Эйсбар откинулся на спинку дивана и закрыл глаза. Скорей в Москву! Последние три недели в Петербурге утомили его своей суетностью и бесплодностью. Гесс давно уехал. Зарецкая сразу после премьеры укатила в свою Ялту. А он, как проклятый, все колесил и колесил по сумрачному городу, в котором, кажется, никогда не наступает рассвет. От одного синематографического театра к другому, от одного к другому. И так каждый день с утра до вечера. Представлять фильм, говорить дежурные слова, отвечать на дурацкие вопросы зрителей… Впрочем, и его ответы тоже не блистали глубиной мысли. Ну, как ответить на вопрос: «А гимназистке правда выкололи глаза?» Простая публика воспринимает все напрямую, не делая разницы между жизнью и экраном. Впрочем, быть может, это и к лучшему. На это, собственно говоря, и рассчитано. Послышалась возня, и Эйсбар слегка поморщился. И эта компания, с которой приходилось проводить время. Обтекаемый Долгорукий с его кошачьей повадкой и фальшивыми улыбочками и безумный накокаиненный Жорж. Жорж…
Все, что происходило в последние дни, отпечаталось у него в голове стоп-кадрами — иногда мгновенными, иногда растянутыми, замедленными. Вспышка — зал кинотеатра, головы зрителей, поверх которых он смотрит. Еще одна вспышка — восторженное лицо курсисточки, тянущей к нему букет. Еще одна — курсисточка на диване в квартире на Конюшенной. Букет валяется в углу. Большие вялые груди валяются на подлокотнике дивана. Курсисточка оказалась скучной неповоротливой дурой. Никак не уходила, ныла что-то о вечной любви. Он с тоской вспоминал непоседливую Ленни с ее насмешливостью и мгновенным откликом на любое его желание. Еще вспышка — они с Долгоруким и Жоринькой выходят из кинотеатра. Улица залита дождем. Город дробится и множится в лужах. Кажется, что у каждого фонаря сотни отражений. Жоринька увлекает его куда-то.
— Не будьте таким нудным, Эйсбар! Эти курсисточки наводят на вас меланхолию!
Он оглядывается в поисках Долгорукого, но тот уже растворился в осенней мороси. Еще вспышка — они с Жоржем в какой-то комнате, завешанной коврами, — подвал, не подвал? Вроде куда-то спускались. Бродят невнятные тени. Со стен струится тусклый свет. Душно и почему-то дымно. Жоринька в своей излюбленной позе утомленного фавна полулежит на полу и курит кальян. Тело его кажется совсем невесомым. Надо изменить ракурс, чтобы оно стало материальным. До ламп не дотянуться — слишком высоко. Он видит свою руку, протянутую к лицу Жоржа. Видит, как его пальцы берутся за подбородок, поворачивают его к свету, передвигают руки, нажимают на плечо, чтобы оно опустилось, разворачивают корпус. Ему нравится вещественность, плотность этого тела. В нем нет скорой податливости, но сила… Ему надо обладать этой силой, подмять ее под себя. Он чувствует, как его захлестывает нетерпение, даже раздражение. Он уже не понимает, мужское это тело или женское. Ему все равно. В голове стучит одно: взять, подчинить, владеть. Это новое обладание сделает его власть почти безграничной. Он отбрасывает ногой кальян и опрокидывает Жориньку на ковер. Тот хохочет. Тело его выгибается и отдается бешеному напору, откликается на сумасшедший ритм. Потом они лежат рядом.
— Вы — хвост павлина, вы — дитя порока, Эйсбар! — произносит Жоринька ухмыляющимся ртом. — Такой несокрушимый, а вот ведь и вас, оказывается, можно кое на что подсадить.
— На что же? — его голос звучит равнодушно, холодно. Он уже совершенно спокоен. — Не на вас ли?
— Да при чем тут я! Я — существо мелкое, способ, ничего больше. На власть, Эйсбар, на власть.
И Жоринька кладет его руку себе на шею.
…Раздался звук открывающейся двери, и Эйсбар недовольно открыл глаза. В купе заглядывал проводник.
— Чайку не желаете-с?
— Коньячку, любезный, коньячку, и побольше! — радостно откликнулся Жорж, который в рубахе с расстегнутым воротом сидел на своем диване и полировал розовые ногти.
Эйсбар протянул руку через узкий купейный проход — Жоринька подался к нему, — провел пальцем по горлу Жориньки, потом потянул вниз рубаху, обнажая точеное плечо с длинным бицепсом, и принялся с силой мять его, как глину, будто хотел вылепить заново.
— Да погодите вы, Эйсбар, порвете, — сказал Жоринька, расстегивая рубаху и подставляя гладкую безволосую грудь. Эйсбар, не отрывая от него глаз, щелкнул замком двери, рывком перевернул Жориньку спиной к себе, схватил за волосы и бросил вперед. Тот упал на колени и застонал, раскачиваясь вместе с поездом и едва не стукаясь лбом о стенку купе. В коридоре зазвенели стаканы. Эйсбар, так же не глядя, отпер купе. Появился проводник с коньяком. Они сидели каждый на своем диване. Жоринька по-прежнему полировал ногти, время от времени проводя кончиком языка по губам. Эйсбар сидел откинувшись, полуприкрыв глаза и наблюдая за ним. Коньяк пришелся кстати. Жоринька спал всю ночь, как младенец, причмокивая во сне. Расстались на перроне.
— Так вы заходите! Ленни будет вам рада! — крикнул на прощание Жоринька и помахал Эйсбару рукой.
…Это было весьма любопытно: столкновение графа Долгорукого и Жоржа Александриди у дверей дома, где жила Елизавета Карловна, она же Лизхен.
В Москве продолжалась питерская морока: представление «Защиты…» в кинотеатрах, утомительные в своей бессмысленности разговоры с публикой после сеанса. Долгорукий называл это иностранным словом «промо-тур», чем сильно раздражал Эйсбара.
— Когда закончится эта галиматья, князь? — спрашивал он у Долгорукого.
— Потерпите, милый Сергей Борисович! Мы вот тут запланировали поездку в провинцию…
— Без меня! — сухо отвечал Эйсбар, поднимая обе руки, словно отстраняясь от князя.