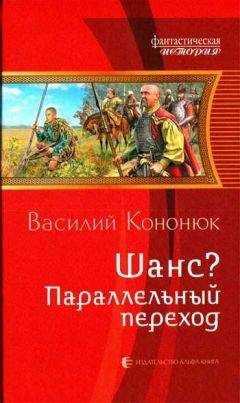Василий Кононюк - Параллельный переход
– Батьку, все в твоей власти, сегодня чужой, завтра родной. – Он смотрел в мои чистые и честные глаза непонимающим взглядом, пока до него не дошло, что я имею ввиду, и он громко расхохотался.
– А тебе Богдан, палец в рот не клади, по локоть отхапнешь. А что, этому, тебя, тоже святой Илья научил?
– Так это, батьку,…
– Я все помню Богдан, голова у тебя пустая как бубен, а язык и руки сами вертятся. Какие дурницы слушать приходится, прости Господи. Иди Богдан, халамыды делай, а то обратно захочется тебе голову снести. Не можешь правды сказать, так хоть молчи.
– Понапраслину на меня баешь батьку, нету лжи в моих словах. А что не всю правду говорю, так ты сам сказал. Чужому человеку до конца веры нет. – Тут уже атаман все понял с полуслова.
– Знал я, что ты хитрый хлопец, Богдан, но снова ты меня удивил. Потолкуем с тобой об этом через две зимы. Только яблоко доброе само не падает, и окромя тебя, на него охотников в достатке. Так что потрудиться тебе придется, если хочешь, чтоб в твою сторону ветер подул.
– Потрудимся, батьку. Так что побегу я батьку, за сеткой, десять халамыд, то не одну связать, работы много.
– Беги. А чего ты по селу с взведенным самострелом ходишь? Кур соседских бьешь? – Атаман углядел мой, заряженный тупой стрелой самострел.
– Так хотел с Керимом бой учинить, как с татарином биться буду, а он на охоту уехал.
– То-то я смотрю, на тебе тулуп зимний, и шолом Ахметкин, с маской железной. Один такой шолом на всю округу был. Ну, идем в огород, проверю я, вместо Керима, как ты к бою готов.
Мы вышли в огород, быстро отмерив шестьдесят шагов и положив посередине палку, стали на исходные позиции. Все эти дни, в свободную от забот минуту, вспоминая и проигрывая последний поединок с Керимом, был уверен, что поймал перед своим выстрелом правильный настрой. Та пустота, царившая во мне, то чувство общности с землей, травой, Керимом, его луком, стрелой, не могло быть ошибкой. Но где-то в момент прицеливания, поиска его силуэта, в просвете своего прицела, оно слегка деформировалось, и сколько не старался, не мог его удержать даже в иллюзорном поединке, что уж говорить о реале. Сегодня мне в голову пришла простая и очевидная мысль. Ведь мне не обязательно стрелять, это татарин ищет моей смерти, мне обязательно, не поймать стрелу. Поэтому решил разбить стоящую предо мной задачу на две. Сначала увернуться от стрелы, а дальше как будет.
Пока мы ходили, отмеряли, медленно погружался в состояние оторванности, в состояние, в котором ткань мира теряет объемность, становится плоской, и ты начинаешь ощущать себя связанным с этой реальностью, только одной гранью, остаток от тебя уносится в другие сферы, из которых, все происходящее теряет скорость, время, размер. Все окружающее становится частью тебя, натягивающий лук Иллар, летящая стрела, твое тело, становятся пальцами большой руки, и ты знаешь наперед, как будет двигаться каждый из пальцев.
Первую стрелу Иллар пустил сразу, едва мои губы дали команду. Затем подошел к разграничивающей палке и начал стрелять с тридцати шагов. Вначале он делал перерывы между выстрелами, затем они начали сокращаться, и восьмую стрелу он пустил сразу за седьмой, поймав меня в движении. Удовлетворенно хмыкнув, он уважительно сказал.
– Молодец! Быстрый ты, чертяка, что мои стрелы. Не возьмет тебя татарин. А чего ж сам не стреляешь?
– Будет время после него, выстрелю. А не будет, и так добре. Это он ищет моей крови, мне от него ничего не надо. Спаси Бог тебя, батьку, что проверил меня, пойду я халаты делать. А от стрел тикать, меня Керим научил, сам бы вовек не научился.
– Ишь ты, старый пень, что умеет. А никому не скажет. Тронул ты его сердце, Богдан, раз он тебе, такое, показал. Сколько лет живет, слова доброго от него никто не слышал. Увидишь его, передай, чтоб на середу готов был к походу. С собой возьмем. Таких лучников как он, один на тьму.
– Понял, батьку, передам. Батьку, работы много, одному мне тяжко будет, а можно мне будет, хлопцев и девок, с села, на помощь позвать?
– Кого надо, всех зови, скажешь, то мой наказ, но чтоб через два дня все готово было.
Атаман остался в огороде, собирать свои стрелы, а я побежал к дядьке Николаю за сеткой. Во дворе у атамана, делая вид, что чем-то сильно заняты, крутились малый Георгий с Марией. Точно подглядывали, что мы с атаманом в огороде делаем.
– Здравствуй Мария, хорошо, что тебя увидел. Мне нужно десять халатов казакам изготовить, чтоб могли скрытно к супостату скрадываться. Помощь мне нужна. Поэтому просьба к тебе. Выбери пять подружек своих, которые нитку с иголками в руках держать умеют, и приходите ко мне во двор завтра после обеда. Нитки с иголками берите. А я Андрея с хлопцами позову, которые мне на хуторе помогали. З Божьей помощью, до вечера справимся.
– Не знаю, или пустят нас, – сразу начала кокетничать Мария, но я пресек эти попытки на корню.
– Родителям скажите, это наказ атамана. Кто пускать не хочет, пусть сразу идет к атаману, и ему говорит, что не будет его наказ исполнять.
– А мне отцу, что говорить? – Пыталась давить своим эксклюзивным положением Мария.
– Вот это ему и скажи, он сказал, кого мне надо, всех могу на помощь звать. Так что приходи, без тебя нам не справиться. Ты нам светить будешь всем, как зорька ясная. – Фыркнув, смущенная Мария убежала в дом.
Придя к дядьке Николаю, я ему мстительно заявил, что его дело худо, атаман никак не может решить, уже его с села выгнать, или до весны обождать. А пока пусть несет, всю сетку, которая у него есть. Хватит сетки, может смилостивиться атаман, и еще даст ему год времени, до следующего урожая. Причитая на злую судьбу и плохой урожай, он вынес, метров пять сетки шириной чуть меньше полутора метров. Холодно посоветовав ему, уже паковать воза, развернулся, чтоб выйти, но Николай вдруг вспомнил, что у него еще есть сетка. Скрутив все в рулон, и забросив на плечо, переполненный радости, что в ближайшее время не нужно будет общаться с этим типом, побежал домой, по дороге завернув к Андрею, и передал ему новый наказ атамана, быть завтра после обеда с хлопцами у меня. Сгрузил дома сетку, и самострел, побежал к Кериму, задавая себе по дороге вопрос. Почему я ношусь по селу как электровеник, таская на себе различные тяжести, а моя кобыла, жует в хлеву сено, и в ус не дует. Видно это хитрое животное умеет меня гипнотизировать. Никакими другими объективными причинами объяснить свое поведение мне не удалось. Мне, как человеку, с уважением относящемуся к лени, и получающему удовольствие от созерцания, как работают другие, было совершенно не свойственно так безжалостно эксплуатировать свой организм, без всяких на то веских причин.
Керим был уже дома. Среди других своих умений, он был признанным зубодером в нашем селе, и первым делом, я попросил его вырвать остатки зуба, пока не заросла разорванная десна, и не началось воспаление в обломке с открытыми нервами. Керим был профессионал, у него даже аналог зубоврачебного стула был, с учетом специфики эпохи. Возле заборного столба стоял высокий пенек, к столбу были привязаны пять веревок. Усадив меня на пенек, Керим, споро примотал веревками мои руки, ноги и голову, так, что я не мог пошевелиться. Осмотрев мой зуб, и поцокав языком, Керим радостно сообщил, что будет больно, и пошел выносить различные инструменты. Осмотрев его инструментарий, понял, что Кериму без разницы, луки делать, или зубы, инструменты одни и те же. Всунув с противоположной стороны, мне в зубы распорку, Керим, небольшим ножиком, разрезал мне десну с внутренней, целой стороны, деревянными лопатками, которыми он наносил клей на плечи лука, отогнул разрезанную десну в сторону. Ухватившись небольшими клещами за обломок зуба, ловко выдернул его наружу. Поскольку плеваться слюной и кровью в рожу врача, пока он тебя не отвязал, чревато, приходилось судорожно глотать и мычать, пытаясь объяснить Кериму, что любоваться моим зубом можно после того, как освободишь пациента.
Но все в этой жизни рано или поздно кончается, и хорошее и плохое, а по прошествию определенного времени, ты уже и не различишь, плохое оно или хорошее. Плоские события приобретают объем, наполняются разнообразными смыслами, и то, что ты считал плохим, вдруг становится и не таким уж плохим, а иногда, просто хорошим, все дело в узости угла зрения при первом взгляде. Попытавшись взглянуть на вещи шире, заставил себя радоваться тому, что сижу привязанным на пеньке, мне в горло, не переставая, льется кровь с разрезанной десны, а голова и верхняя челюсть разламываются от боли. Ведь в этом мире есть масса мест, где сидеть не захочется никогда, кровь может литься и с более важных частей тела, а голова может и не болеть, особенно если она уже не на плечах, но это никого не обрадует.
Занятый такими мыслями, уже даже не реагировал на то, что развязав меня, и дав мне серебряный кубок с вином, пополоскать рану, Керим сразу предложил посмотреть чему я научился за это время, и пошел выносить лук и стрелы. Мы стояли на огневом рубеже, все замерло в ожидании, Керим не стрелял, я не двигался. Наконец, поняв, что так он будет ждать долго, Керим, непонятным мне образом, вытолкнул меня с состояния видения, и саданув стрелой по ребрам, удовлетворенно заявил, что в поединке выживу, если о самостреле не вспомню, и целить не начну. О самостреле я не вспомнил, но вспомнил другое.