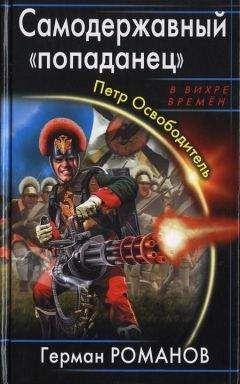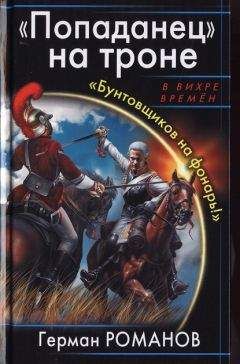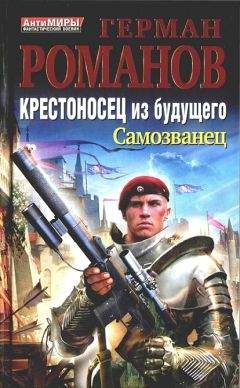Герман Романов - «Попаданец» на троне
В один жуткий погребальный костер превратился Большой дворец, дотла уже сгорели казармы голштинского войска, превратившись в черное пепелище, из которого сочилось множество струек черного дыма, рассыпались во все стороны искры от трещавших бревен, превратившихся в раскаленные уголья.
А сейчас двухпудовые бомбы мортир и полупудовые гранаты единорогов сеяли смерть и пожары в самой крепости. Занялись пламенем все деревянные строения внутри самой цитадели, а тушить пожары было делом совершенно невозможным — любая попытка брать воду из крепостного рва тут же пресекалась картечью.
Массированным огнем мощных пушек были почти полностью разрушены красивые крепостные ворота. Трудно представить, что еще утром эта закопченная коробка представляла собой кокетливую башенку. Занялся пожаром и малый императорский дворец внутри цитадели…
— Григорий Андреевич! — адъютант с окровавленной повязкой на голове и с покрытым сажей лицом, в тлеющем от искр мундире, почти орал в ухо командора. Да оно и понятно — от непрерывного грохота орудий люди глохнут и сами переходят на крик. — Роты готовы к вылазке! Надо атаковать, господин командор, иначе все здесь поджаримся!
Спиридов сплюнул тягучую черную слюну и, крепко взяв в ладонь рукоять абордажной сабли, быстро махнул рукой, давая сигнал горнистам. Четыре трубача грянули пронзительный сигнал, перекрывший орудийный грохот. Протрубили разом и через несколько секунд умолкли навечно. Бомба с мортиры угодила в них, с чудовищным грохотом взорвалась, разметав по всем сторонам ошметки человеческих тел.
Но призыв их был услышан, и гарнизон сразу пошел в последнюю, отчаянную атаку. Рванулись даже те, кто истекал кровью от ран. Поднялись из последних сил — только бы испить глоток чистого воздуха…
Григорий Орлов искоса глянул на князя, спрятав презрительную улыбку. Сейчас в Никите Юрьевиче было не узнать патологического труса, ожил старичок, расправил плечи, горделиво выдвинул вперед птичью грудь.
Победитель и триумфатор в одном лице, видно, прикидывает, как победную реляцию матушке-царице писать и о своих подвигах красочно поведать. Дабы императрица службу верную заметила да милостями своими слугу храброго отметила, крепостных и деревенек побольше дала.
Сам же Григорий был мрачен — они там враги и хулители, конечно, но герои. В дыму и пламени они отчаянно вели безнадежную борьбу. Все меньше и меньше вспышек орудийных выстрелов можно было разглядеть с крепостных валов, но они были, и стреляли моряки метко. Добрую треть осадной артиллерии вывели из строя, размолотив тяжелыми ядрами три единорога и пушку.
Сколько их там погибло, один только бог ведает, но даже в таком адском пекле шамад, сигнал о сдаче, не трубили. И только Орлов об этом подумал, как из крепости донесся отчаянный трубный глас.
В морских сигналах Григорий совершенно не разбирался, но этот сигнал один раз слышал и запомнил на всю жизнь. Трубы слитно проревели последний призыв к матросам: «На абордаж!»
Бывает на корабле так — откидывают резко крышки люка в стороны, и на дне трюма, внезапно освещенном ярким солнечным светом, видно, как черными тенями стремительно кидаются в неосвещенные углы своего обиталища скопища крыс.
Аналогия совершенно неуместная, но именно сейчас на ум Григорию пришла именно она — три черных потока перехлестнули крепостные валы, затопили своими телами неширокий ров и выметнулись почти разом из него. И не трусливые крысы порскнули…
С ревом предсмертной ярости, в котором слышится лишь одно желание — «пусть меня убьют, но я доберусь до горла врага», хлынули с морской лихостью, озверелой матерщиной себя нахлестывая, уставив закопченные штыки и лезвия сабель, единым духом пошли в свою последнюю атаку матросы и почти не отличимые от них голштинские пехотинцы.
Семьсот шагов до позиций гвардейских единорогов они пробежали на одном дыхании, почти не стреляя из фузей и не останавливаясь ни на секунду. Только убитые ничком падали, а раненые из последних сил за ними в атаку ползли, отстать не желая, настолько велика их ярость была. И холод пошел по спине Григория Орлова…
Занервничали Преображенские бомбардиры, тут же выстрелили бомбами в сторону крепости и лихорадочно заторопились. И успели-таки артиллеристы зарядить по новой жерла своих орудий, но уже картечью. Канониры приложили фитили к затравочным полкам, и грянул залп в упор, позиции пороховым дымом укутав.
Орлов видел, как десятки атакующих попадали, но густая черная масса хлынула дальше и захлестнула позиции. А навстречу им в чистых зеленых мундирах гвардейцы ринулись, со штыками наперевес, и все смешалось. Только единый слитный вопль из груди многих вырвался…
— Гриша, беда! — Силач обернулся, не стараясь скрыть недовольства.
Он собирался в общую драку кинуться, за ночную вылазку посчитаться, ведь без малого сотню преображенцев сонными покололи и порубили. Но вот эмоции сдержал — не тот офицер Бредихин, чтоб дурость всякую без нужды говорить. Именно его вместе с капитаном Пассеком, что сейчас в нижнем парке со вторым батальоном стоит, позиции мортир прикрывая, он первыми в заговор против императора Петра вовлек…
— Галеры в канал пошли, на прорыв! Две зажгли, но одна прорвалась, а из нее матросы что твой горох посыпались. А еще с других галер и шлюпок десант на берег стали высаживать, сотни три-четыре будет. Все озверелые, пьяные. Пассек три роты на них бросил, а еще тремя ротами от гарнизонных и галерных на обе стороны сразу отбивается. Сикурсу давай нам срочно, роты две, не меньше, а то не сдюжим. А драгуны, суки червивые, всем скопом из парка сбежали…
— Какой сикурс?! Ты что, не видишь, что здесь творится! Сейчас мы эту сволочь откинем и с тылу ударим, поможем Пассеку…
Гостилицы
— Ваше величество, три батальона пехоты сюда идут, колонна на три версты вытянулась. Через полчаса будут. Рота кирасир в авангарде, еще по полроты на каждом фланге разъездами многими в охранении. Четыре эскадрона в конце колонны, сикурсом. От казаков нарочный прискакал. Если наших солдат разъезды обнаружат, что делать? Прикажете войска из рощиц выводить, для генеральной баталии строить?
Требовательный голос генерал Гудовича вывел Петра из полусонного состояния.
— Нет, — после небольшого раздумья бросил Петр, — оставим все по прежнему плану. Только русские дважды на одни и те же грабли наступают. Вели всем за деревьями ничком упасть да ветками накрыться. И чтобы через раз все дышали и осторожно. И казакам дозорным передай, чтоб на отдаленье, глазу невидимом, за ними наблюдали, как условлено было, с бережением и опаской, и не лезли на глаза. Нас здесь нет, понятно?! В Гостилицах по домам мы еще торчим и в ус не дуем!
— Так точно, ваше величество! — отчеканил с непонятной радостью Гудович и тут же отдал приказы ждущим в стороне адъютантам.
Окончательно стряхнув остатки сна, Рык закурил папиросу, пыхнул дымком. Табак подействовал благотворно, и он полностью вошел в тонус. Даже замурлыкал про себя веселенький мотив, оглядывая окрестности через подзорную трубу.
Но стараясь сильно не выглядывать из-за густых кустов и не пустить окуляром солнечный зайчик. Конечно, до снайперов здесь еще не додумались, но, не дай бог, солдат неприятельский заметит отблеск и тут же командиру доложит — так, мол, и так, впереди нас засада поджидает…
Вдалеке пылила длинная колонна пехоты, солнце бликовало на граненых штыках. Впереди бредущей инфантерии и с двух сторон боков ее неспешно трусили немногочисленные конные разъезды, судя по темным мундирам, из лейб-кирасиров.
Но вот своих казачьих разъездов Петр не увидел, как ни вглядывался, словно испарились донцы бесследно. Лишь раз где-то вдалеке тени какие-то промелькнули, но то могла и ресничка в глаз попасть или моргнул некстати…
Сербских гусар справа и не видно, и не слышно. Милорадович — мужик тертый, всех за рощицы упрятал. И слева спокойно — там казаки за пригорком капитально схоронились. А с поля, Петр был уверен, лично смотрел, солдат видно не было, егеря в кустах и камышах хорошо маскировались, да и пушки надежно прикрыты.
Именно на них вся надежда — дюжина стволов, заряженных картечью, должны были здорово проредить гвардию, тем паче перекрестным, косоприцельным и прослойным огнем. Типичный «огневой мешок», о котором здесь ни сном ни духом еще не ведали, его только генерал Бонапарт через тридцать лет придумает, артиллерист от бога. Гудович только головой мотал, слушая пояснения Петра, да пробормотал восхищенно: «Ваш великий дед недаром бомбардирское дело любил…»
Петр время от времени присаживался да курил спокойно, окончательной развязки ожидая. Сила немалая валила. Одной пехоты без малого три тысячи отборных штыков да девять сотен конных латников и шесть пушек полковых с ними.