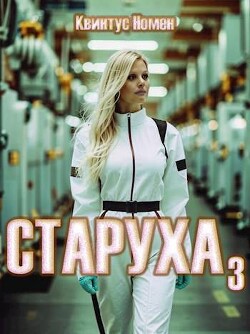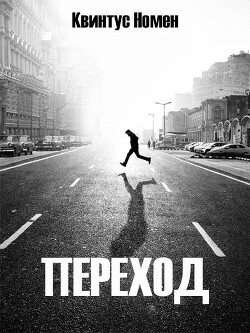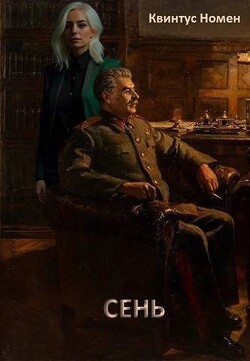Внучь олегарха (СИ) - Номен Квинтус
Зачетная сессия для меня пролетела вообще незаметно: по «предметам» все их сдала практически мозги не напрягая, а курсовую работу показала даже не на кафедре у себя, а у товарища Челомея в институте — и там тоже никаких вопросов не возникло. То есть как раз вопросов-то было море: я представилавсего лишь общую схему «цифровой модели» и очень общим описанием отдельных расчетных модулей — и вот по этим модулям у собравшихся на мою защиту инженеров вопросов было просто море. Но все они в основном сводились к одному вопросу: тут же нужно столько всего рассчитывать, что «даже современные вычислительные машины такие расчеты будут месяцами проводить». Было у меня острое желании ответить, что вопрос о том, сколько времени на расчеты потребуется, их вообще не касается, но я сдерживалась (все же школа-то у меня — огого какая!) и очень спокойно и вежливо отвечала что-то вроде «на расчет динамических параметров оболочки такого типа потребуется, согласно мнению профессора Ляпунова (которого мне через МГУ тоже удалось привлечь к работе в качестве консультанта), на вычислительной машине типа БЭСМ не более десяти-двенадцати суток, если требуется точность в пределах шести значащих цифр», а Владимир Николаевич, которому я перед началом защиты успела кое-что рассказать про изготовленную в МИФИ машину, при этом лишь довольно улыбался. Ну я же ему очень не все про это чудо техники рассказала-то… впрочем, думаю, если бы и все рассказала, то он не особо и расстроился: я много слышала в прежней жизни о том, что «экстраполировать нынешние достижения в будущее» он умел как никто другой.
Точно так же в очень спокойной обстановке у меня прошла и сессия экзаменационная, особенно самый сложный для меня предмет «механика тонкостенных оболочек». И снова экзамен пришел принимать (не только у меня, а у всей группы) Владимир Николаевич (а Лена мне «по секрету» сообщила, что он на этом экзамене подбирает будущих инженеров себе в КБ). Ну, мне это не грозило, так что я даже не нервничала перед экзаменом, а вопросы вообще мне попались в билете такие, какие мне пришлось очень тщательно проработать для создания схемы цифровой модели, так что и ответы у меня ни малейших затруднений не выхвали.
Но всю сессию меня не оставляла одна мысль: «а как там во Фрязино дела идут». Осенью я туда передала схему единственного известного мне очень нужного изделия — то есть единственного, которое я самостоятельно, пользуясь полученными еще в институте знаниями, смогла воспроизвести. Схему модуля динамической памяти, мы ее в институте в свое время и разбирали, причем исключительно в плане примера использования комплементарных транзисторных пар. Если на схему просто посмотреть, то она кажется очень простой: два транзистора на бит, семьдесят два транзистора в адресной части (если емкость схемы не превышает шестьдесят четыре килобайта), еще пара сотен транзисторов для буфера ввода-вывода. То есть транзисторов вроде и много, но схема настолько регулярная, что в ней даже новичок в радиоэлектронике не запутается. А еще раньше я там же, в НИИ-160, рассказала все, что знала про КМОП-технологию, рассказала потому, что ни про какую другую я вообще ничего не знала — и они как раз в сентябре начали серийный выпуск МОП-транзисторов. А после этого в институте решили и «мою» схему памяти на одном кристалле воспроизвести (я подозреваю, лишь потому что никаких других схем, достойных предстоящих затрат они выдумать не сумели). А перед Новым годом оттуда ко мне (то есть просто «по пути») заехал мой однофамилец (и директор этого института) и сказал, что инженеры уже вроде бы техпроцесс изготовления микросхемы отработали, изготовив штук восемь «пробников» емкостью по шестнадцать бит на кристалл, а с началом нового года она попробуют уже «полноценную схему» изготовить, причем уже на подготовленной для серийного производства линии. Я от радости даже забыла спросить, какой же емкости мне новые схемы ожидать, и теперь этот вопрос не давал мне покоя. Просто потому, что была вычислительная машина, разработанная в МИФИ.
Машина была со всех сторон замечательная, считала быстрее всех ныне существующих, электричество не жрала как электрическая свинья. Но у нее имелся небольшой недостаток: оперативная, извините за выражение, память емкостью аж в двести шестьдесят четыре байта! Подключаемая к процессору как «внешнее устройство» через встроенный в процессор контроллер, позволяющий данные по четырехбитной шине перекачивать в шестнадцатирязрядные регистры. Эту «память» (хотя правильнее ее было бы называть «склерозом») они просто «сперли» с М-2, а сделана она была на электростатических трубках и, понятно, скорость доступа к данным в этой памяти была просто удручающей. А вот если бы к ней подключить память уже на микросхемах, да изготовленных по КМОП технологи… вот об этом я и думала все время. Но, как оказалось, переживала я по этому поводу совершенно напрасно.
Двадцатого января, сразу после сдачи последнего экзамена, меня к себе пригласила Лена и сообщила, что мне ждут в сто шестидесятом НИИ, причем ждут с нетерпением. У меня тоже нетерпение тут же разгорелось и я туда поехала даже в общагу не зайдя переодеться. Не зря поехала, мой однофамилец лично ко мне вышел на проходную и отвел в лабораторию, где мне показали небольшой прибор в DIP-корпусе с двадцатью четырьмя выводами. А когда я с любопытством на однофамильца уставилась, он тут же с широкой улыбкой пояснил:
— Это серийный образец изготовленного по вашей схеме элемент динамической памяти, сто двадцать восемь слов по два байта каждое, причем хранение производится в коде Хемминга, контроллер записи сам этот код формирует, а контроллер чтения выдает на выход уже дешифрованное значение.
— Вы просто чудо совершили! А сколько…
— На одном кристалле, выполненном на пятимикронной базе, нашим инженерам удалось разместить чуть больше трех тысяч транзисторов на кристалле размером четыре на три миллиметра. На одну пластину поменяется тридцать четыре элемента, выход годных пока составляет около пятнадцати процентов… но с линии выходит по двадцать четыре полностью готовых платины в час. То есть сейчас мы уже делаем по сто двадцать таких микросхем в час… а вам вообще сколько их нужно? Полный цикл обработки занимает шестнадцать суток, так что если мы сегодня же производство остановим, то все равно вы получите еще около сорока пяти тысяч таких изделий, вам столько хватит?
— Хватит? Да вы смеетесь, что ли? Мне, точнее, Советскому Союзу их нужны многие миллионы! Ну судите сами: для изготовления минимально пригодной для работы вычислительной машины требуется память минимум в шестьдесят четыре килобайта, то есть минимум двести пятьдесят шесть таких корпусов.
— Но с учетом тех, что мы уже изготовили, этого хватит на двести таких машин, даже больше!
— Тогда я вам задам другой вопрос: как дела идут с той схемой, которую я вам передала в начале декабря?
— Мы с ней работает, планировщики говорят, что уже в феврале, я думаю, ближе к концу февраля, можно будет и ее запускать в производство. Для этого даже нашу линию переналаживать не придется, просто поменяем фотошаблоны…
— Ну да. И ваша линия будет производить по сто двадцать… для начала по сто двадцать процессоров в час. И для каждого выпущенного процессора потребуются по двести пятьдесят шесть таких схем памяти, для каждого!
— А зачем вообще столько вычислительных машин могут пригодиться? Я думал, что мы за день…
— Уважаемый Мстислав Михайлович, если я вам сейчас буду просто перечислять те области, где эти машины будут нужны как воздух, то вы уснете от усталости раньше, чем я и четверть вам рассказать успею. Поэтому у меня к вам будет только один вопрос: сколько вам нужно всего — я имею в виду денег, оборудования, специалистов, расходных материалов — то есть вообще всего, чтобы у вас тут можно было запустить с десяток таких линий.
— Ну, я не знаю, выделят ли нам хотя бы десять процентов из того, что для этого потребуется, — в голосе Мстислава Михайловича прозвучала какая-то ирония.