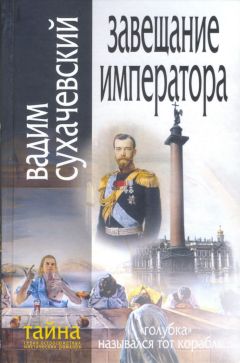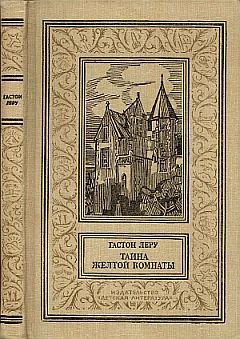Вадим Сухачевский - Завещание Императора
— М-да, — согласился "Беркут", он же Андрюшка Шепотков, друг задушевный, — с того света возвернулся, можно сказать... Ты бы только дьявола, Тимофей, лучше б, право, не поминал. Сами ангелы небесные, должно, тебя спасли. Лучше Господа Бога благодари, что нашли тебя тогда в сугробе... А жуть, о которой тут говоришь — так чего не привидится, когда смерть уже, поди, прибирает? Тут даже спьяну такое, бывает, примерещится! Или вон, помню, о прошлом годе, когда застудился я и лежал в бреду (думал, отхожу), — так тоже насмотрелся такого...
— Ну, коли такой Фома — считай как хошь, — не очень обиделся "Муха" недоверию к своим словам, поскольку и сам был не шибко уверен — видел вживе всю эту жуть или, правда, померещилось в бессознании, да и водочка сейчас с горячей требухой не располагала к обидам. — А только, — после еще одной рюмки загордился он, — верь, не верь — я и там присягу соблюл: ни про пселдоним свой, ни про тайную службу, ни про его благородие ротмистра — ни гу-гу. Панасёнкова бы, паскуду, на мое место — я бы на него поглядел, когда бы он, в штаны наложивши!..
— Да уж, — подтвердил "Беркут"-Шепотков, — этот бы со страху — в штаны сразу же...
* * *
Врал "Муха", ох, врал! Как ни приятственно было перед другом Андрюшкой геройством своим и верностью присяге похвалиться, а только врал, хоть и сам уже успел себя убедить, что так оно и обстояло — по-сказанному. Ну да пускай попробует кто проверит, хоть бы даже их благородие господин ротмистр.
А тогда, под проклятой этой луной, под страшным взглядом Псоголового, обращающим твою душу в зыбь, тут же выложил он все как на духу. Да и кто на его месте не выложил бы? Панасёнков, что ли? Сходу же кличкой постылой назвался — что-де "Муха" он; и про Агентство свое, вопреки всем правилам, не утаил, а дале уж понесло без удержу, как по ледяной горке, лишь бы икота эта анафемская так не терзала нутро:
— ...То есть, прозвище такое Агентское — "Муха": их Велико... их, то бишь, благородие, ротмистр жандармский Ландсдорф у нас большой шутник-с. Навыдумали! А по православному я Тимофеем зовусь, Леденцов Тимофей, по батюшке покойному, кожевенных дел мастеру Гордею Леденцову — Тимофей Гордеев, стало быть... Сколько батюшка нравоучал, чтоб я не шел по сыскной части, даже вожжами, было дело, нравоучал: хотел, чтоб я, как он — по кожевенной специальности. Эх, послушать бы!.. Так-ить дурак же был, ваше высо... Великий! В сыскном посулили со временем классный чин пожаловать... А какой там чин! Дождешься его, когда у интенданта Панасёнкова, подлеца... Виноват, Великий!.. Когда у сына этого сукиного даже на справные сапоги ни алтына не получишь, все тайком в свой карман ложит, и жалованье задерживает; а чуть возразишь — сразу в ухо. Тут классного чина дожидаючись, тыщу раз околеешь сперва...
Псоголовый слегка шевельнул рукой, и вместо слов изо рта у "Мухи" хлынула перемежаемая новым приступом икоты смертная пена, а меньший из двух "котелков" свирепо прикрикнул на него:
— Не испытывай терпение Великого! Будешь ты, наконец, говорить дело?
Несмотря на пену, пузырящуюся на губах, "Муха" в знак понимания моргнул и тут же снова обрел дар речи, которым на сей раз попробовал воспользоваться уже не столь расточительно.
— Слушаю-с, Великий! — взбоднул агент головой. Поскольку в этот момент он не стоял навытяжку перед его благородием Ландсдорфом, а лежал плашмя, его голова так стукнулась об окаменевшую глину башни, что прошелся гул, (даже ко времени разговора с Андрюшкой-"Беркутом" голова еще звенела, как колокол, от того удара), но тогда он, "Муха", и не поморщился, не до того, а продолжал бойко, словно зачитывая по собственноручно написанному донесению — так оно всегда справнее выходило: — Совершенно секретно! Случайно обнаружил в трактире "Флоренция", что у Нарвской заставы (может, знаете, Великий, — заведеньице так себе, но кормят-поят недорого), и стал осуществлять скрытное наблюдение за объектом фон Ш., сбежавшим из "Тихой обители". Оный наблюдаемый фон Ш., обряженный в немецкую шинель, очутился в обозначенном трактире, сопровождаемый тоже в немца, чуть не в генерала ихнего переодетым покойным князем Василием Бурмасовым... по нашим, то есть, секретным сводкам обманно числящимся в покойниках... На ужин объектами было заказано: водки — два раза по полштофа; из еды, окромя хлеба и маслин, остальное все сплошь скоромное (невзирая что постная пятница): икра белужья и коровье масло к блинам, осетрины — две порции, фаштета голубиного...
— Дальше давай! — перебил его Большой "котелок". — О чем они говорили?
— А вот говорили-то... — Память возвращалась что-то медленно, хорошенько тут "Мухе" поднапрячься пришлось. — Не все слышно было, я ж там притулился вдали, с уголка... Вначале разные глупости говорили. Стыдно сказать — про клистир. Что будто клистир какой-то — с пёсьей головой... — Нечаянно опять взглянул на страшного, с пёсьей головой, и, что-то сообразив, затрясся мелкой дрожью: — Ваше пре!.. Великий!.. Я ж только повторяю слово в слово! Так в точности и говорили, ей-ей!..
— Ну, дальше! Клещами из тебя вытягивать? — прикрикнул на него Маленький.
— А дальше... — с трудом уняв дрожь, изнатужился "Муха". — Дальше-то все мудрёно. Ихние благородия, не чета нам, дуракам, народ образованный, иди их пойми... Всё про какое-то "пред..." Как бишь?.. "Пред-о-щу-щение"!.. Во! Тут выговори-ка, не считая в отчете для господина Ландсдорфа написать! Что бы там подлец Панасёнков ни говорил — что я-де все мозги пропил (на какие, к слову, шиши?), — а вот, гляди, вспомнил же! Он бы сам, иуда, попробовал!.. — И, поймав на себе не предвещавшие добра взгляды "котелков", добавил торопливо: — Точно, Великий! "Предощущение"! Так и было речено!.. А вот дальше... Я было сперва подумал, что их сиятельство лжепреставившееся шутки шутят. Про какого-то карлу с топориком: что-де карла этот гробы торгует, и кто, мол, ему за свой гроб наперед не заплатит — тот без гроба так и сгинет невесть где, а ежели кто, супротив, заплатит — тогда еще бабушка надвое... Ладно, запоминаю: служба, чай... Тут буря за окном — такая, что смерть да и только! А сиятельству лжеусопшему хоть бы что: в самую круговерть моего объекта из трактира-то и выволок. "Ах ты, — думаю, — служба ты собачья!.." — и за ними, а что поделаешь? Да толку-то! Какая там, к бесу, слежка, когда вокруг — ни зги! Руку вытяни — пальцев не разглядишь! Снежище — дышать нечем! И назад уже не возвернешься — пути вовсе не видно. Заплутал!.. Пальтецо на мне, ваше высокопре... Великий, сами изволите видеть каковское, и сапоги пальтецу подстать; прости, Великий, Панасёнкову бы, паскуде, сапоги эдакие! Воров таких и казнокрадов, как оный Панасёнков, даром что в классном чине...
* * *
Передавая всю эту жуть Андрюшке-"Беркуту", он, "Муха", кое-что, ясно, утаил, вообще за языком своим, несмотря на выпитое, прислеживал, чтобы с глупу, невзначай не выявилось нарушение присяги (хоть бы даже и в самой преисподней — да, чай, нигде не писано, что она там отменена?), а вот о том, что на мерзавца Панасёнкова не упустил нажаловаться Великому, умалчивать не стал, и друг не преминул высказать по этому поводу свое одобрение:
— Так ему! Авось, ему тоже икнется!
— Икнется стервецу, ужо не сомневайся, — уверенно подтвердил "Муха".
— Ну, а дальше-то что?
— Дальше?.. — Он задумался, чтобы не смазать все каким-нибудь словом неосторожным. Впрочем, остальное, пожалуй, можно было рассказывать вполне безбоязненно, ибо к присяге вроде бы касательства не имело. — Дальше, — продолжал "Муха", — оно и вовсе погано. Замело меня — шагу сделать не могу. "Всё, — думаю, — наслужился ты, отмучился, раб Божий Леденцов! Не дождался классного чина, так и пропал не за понюх табака. Щас мороз всю душу изымет!.." — "Муху" и теперь, как тогда, прошибло икотой. Отыкавшись, агент ошалело проговорил: — Тут-то он откуда ни возьмись и является... — На этом Леденцов замолк, только вращал расширившимися в ужасе глазами, словно все еще видел что-то страшное в той кружившей пурге.
— Ну! Кто? — не выдержал Шепотков. (Вот и "котелки" тогда с двух сторон: "Ну! Кто?!" — "Говори, раб, не заставляй Великого ждать!")
Еще некоторое время, тем не менее, "Муха", как и тогда, икал, трясся, пучил глаза, пока снова не обрел дар речи:
— Да кто!.. Он самый, кто ж еще? Карла с топориком!.. Главное дело, ничего не видать, а карла — вот он, тут! В одной рубахе подпоясанной, без шапки, без пальта, топорик через плечо. Стоит себе и глядит — ну прямо в самую душу. "Вот она, — думаю, — Леденцов, смертушка твоя..." А карла мне — тихо так... И ведь буря воет, что зверь, и уши все снежищем залепило, а он тихонько так говорит — и каждое слово при этом слыхать. "Уж не ты ли, — спрашивает, — Тимофей Леденцов, давеча гроб у меня заказывал?" Жуть меня такая, Андрюшка, взяла — не описать! Рта раскрыть не могу. А карла все себе удивляется: "Точно ведь помню, — говорит, — что кто-то заказал, а теперь, когда платить пора — не признаётся никто. Уж все, кажется, обошел, всех обспрашивал. У кого только не был, и у здоровых, и у чумных, и у нищих, и у миллионщиков, ажны до самого государь-императора дошел..."