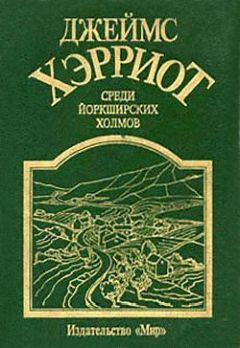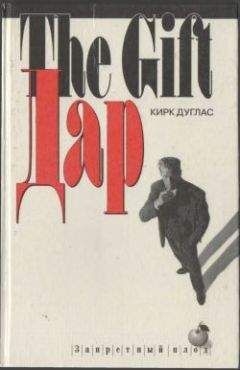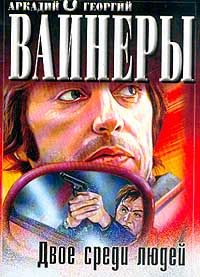Герман Романов - «Попаданец» на троне. «Бунтовщиков на фонарь!»
Но то, что произошло на его глазах, а он почти весь вечер подглядывал в дверную щель, изгнав всех придворных из зала, потрясло его до глубины души. Какая немощность — дочь билась в экстазе, а Петр Федорович трудился неутомимо, и граф видел, как император неоднократно вытирал свое драгоценное семя…
А теперь все решится — в победе Петра Федоровича над мятежниками Роман Илларионович уже не сомневался и желал ее всеми фибрами своей души. Более того, именно сегодня и будет достигнута победа — граф видел, какую эскадру собрал фельдмаршал Миних для десанта на столицу.
Именно на Петербург, хотя все кругом твердили про Петергоф и Ораниенбаум. Но фельдмаршал без обиняков четко сказал ему, предложив союз, который был графом немедленно принят.
Роман Илларионович был тертым калачом, и сейчас в старом Минихе нуждался больше, чем тот в нем. Христофор Антонович мог одним махом решить то, на что не было возможностей у графа — навсегда убрать перед его Лизой препятствие в виде ненавистной супруги и узаконенного ублюдка, в котором нет ни одной капли крови от Петра Федоровича. И он сделает это, пусть и руками Живодера, хотя и сам приложит руку.
Вчера вечером граф передал Миниху три гранулы хранимой в глубокой тайне, полученной от деда легендарной отравы — кантареллы, неизвестными путями попавшей в руки прадеда. И эти последние три гранулы он с радостью отдал Миниху — тот только жестоко сверкнул очами.
Роман Илларионович мысленно списал императрицу Екатерину Алексеевну, ее сына Павла и Ивана Антоновича, внучатого племянника грозной царицы Анны Иоанновны, томящегося уже почти два десятка лет в заточении в Шлиссельбургской крепости…
Граф быстро пробежал глазами письмо дочери — ничего особенного, если бы не приложение в футляре, в котором письмо императрицы, Катерина просила передать его в руки императора. Роман Илларионович выбросил бы письмо, если бы не одно но… Не дай бог случайную пулю императору поймать, ведь тогда крах.
И только младшая дочь, наперсница Екатерины Алексеевны, не даст его в обиду. Но сдержать любопытство Лизаветы граф не смог — девушка открыла футляр и вскрикнула.
— Здесь заусеница, папочка! — жалобно сказала ему дочь и показала капельку крови на пальце. Лиза прижала к пальчику кружевной платочек, промокнула капельку крови, а футляр протянула отцу.
Роман Илларионович грустно улыбнулся — эх, молодежь, вечно торопятся. Взял сам футляр… и порезался. Края крышки оказались острыми — и граф тихо рассмеялся. Ох уж эта немка, постоянно пакости строит.
Затем Воронцов вслух прочитал собственноручное письмо императрицы — умоляющие просьбы супруги Петра Федоровича его совершенно не растрогали. И, злорадно улыбнувшись, он с нескрываемой радостью дал прочитать письмо Лизе.
Та хищной щукой схватила письмо и буквально проглотила его содержимое. Затем победно посмотрела на отца — и торжествующий взгляд дочери ему о многом поведал.
Граф склонился в поклоне перед дочерью, потом подошел и поцеловал ее в лобик. Это была полная победа, и его, и дочери…
— Галера через час идет в Нарву. Я отправлю на ней гонца. Немедленно напиши письмо императору, своему будущему мужу…
Ораниенбаум
Голова сильно болела, но добрый глоток вина несколько унял боль от полученной им контузии. Хорошо, что блевать не хотелось, ибо тошнота дурной признак, и последствия контузии тяжелыми могут быть. Григорий Орлов смачно выплюнул сгусток крови — повеселились морячки, мать их за ногу. Убитых, конечно, жалко — но погибло не так и много гвардейцев, с полсотни едва наберется.
Хуже было другое — солдаты веру в победу терять стали. Несколько сотен поразбежалось по окрестностям, и хотя большинство из них удалось собрать заново с помощью одного-единственного эскадрона драгун, но только надеяться на их дальнейшую стойкость в боях было бы опрометчиво.
Опрос четырех захваченных пленных (а двух из них взял сам Григорий, что пролило бальзам на его душу) еще более обескуражил цалмейстера. Трое матросов на вопросы отвечали охотно, вот только их вера в императора и его неизбежную победу над мятежной гвардией была непоколебимой. И их даже смерть не могла напугать.
Григорий и так и этак пытался объяснить морякам причины переворота, но те только пожимали плечами. А когда Орлов бросил им последний козырь, сказав, что русский царь немец, то матросы, не дослушав, захохотали. Потом сквозь смех привели цалмейстеру слова, сказанные вчера в полдень императором Петром Федоровичем про гвардию…
Долго Григорий Григорьевич переваривал новые для него ругательства. Такое немец никогда не скажет, лишь только природный русский сможет — «суслики жеваные», «кони педальные», «козлы позорные». Это самые невинные и ласковые изречения императора.
А другие бранные высказывания Петра Федоровича пленные матросы произносили с завистливым придыханием — даже для них, хорошо знавших матерно-морскую терминологию, многие слова стали настоящим откровением. Какой тут немец…
Голштинского рекрута со сломанной им же самим челюстью Орлов спрашивать не стал, только еще одним тумаком наградил. Да и о чем спрашивать немчика, который непонятно и еле слышно шепелявит.
Плененных матросов с рекрутом Григорий отправил под охраной в Петербург, чтоб Като с ними пообщалась, а сам в скверном состоянии души стойко превозмогал боль от полученной контузии.
Но через час настроение цалмейстера резко улучшилось, и боль из головы сразу исчезла. Из Петербурга пришла новая, спешно сформированная, рота гвардейской артиллерии — 8 полупудовых единорогов и две кургузые пудовые мортиры. И Григорий Орлов злорадно и торжествующе заулыбался — уже к вечеру от Петерштадта камня на камне не останется…
Гостилицы
Рассветало. Птички зачирикали, солнышко окрасило горизонт в розовые переливы. Утро начинало брать свое, впору о жизни и любви думать, а не о том, как кровушку проливать.
Петр от досады крепко выругался — решающий бой с гвардией его пугал. Император оглядел воинство — везде чуть дымили костры, шатались еще кое-где солдаты, но большинство дремало у костров, переваривая обильный завтрак.
Наедались пищей телесной и духовной служивые впрок — во избежание демаскировки они до самой баталии должны были сидеть в роще тихо, как мыши, костры не палить и разговоры меж собой не вести. Засада — вещь тонкая, и любое нарушение могло привести к самым серьезным последствиям для самих охотников.
— Дядя Ваня, — юношеский тенорок был возбужден, это отчетливо проявлялось в голосе, — а правду говорят, что государь наш изменился, лихим стал и изменников рубит напропалую?
Петр застыл за деревом — он полюбил ходить по ночному биваку и слушать солдат. Два казака, что его сопровождали в этой экскурсии рано утром, ступали по лесу совершенно беззвучно, и он так ни разу и не услышал, чтобы хрустнула веточка под их ногами. Настоящие пластуны, в отличие от него, хотя Петр считал себя неплохим разведчиком.
И сейчас они тихо вышли к солдатскому костру, прислушались к разговору — государь не подслушивает, а собирает информацию. А значит, стыда в таком поступке нет. Знать настроение солдат перед боем жизненно необходимо для любого полководца…
— Измайловцев во дворце лопатой искрошил государь наш до чертиков, то я своими глазами видел! Накромсал…
Голос Петр узнал сразу — тот старый петергофский солдат, что сержанта получил за найденный орден святого Андрея Первозванного, Иван Тихомиров, кажется.
— И изменился он шибко — нашим природным царем стал, по-немецки более не лопочет, а такие словеса иной раз закручивает, куда там матросикам в кабаке. Голштинцы все гутарят, что в ночь перед изменой к государю нашему оба его деда явились, Петр Лексеевич, царствие ему небесное, и Карла свейский, что с нами в долгой войне бился. Так император-то покойный зело наставлял: «Ты внук мой, и потому немецкий говор забудь, и правь разумно, людей зазря не обижай, как я напрасно делал, веру блюди накрепко». Нам службу изрядно сбавил, землей и деньгами награждать будут. Иль пенсион добрый давать. А за такого царя и живот свой положить не жалко. Вон, казаки донские на батюшку нашего сейчас молятся — он жалованную грамотку им отписал. Будут на тихом Дону теперь жить припеваючи, как сыр в масле кататься. Эхма, долюшка наша нелегкая…
И такая жгучая зависть зазвучала в голосе у старого солдата, что Петр содрогнулся душою.
— А Карла свейский, чай, нехристь трусливая?
— Ты говори, а не заговаривайся, дурашка. Я когда со старым Живодером на Крым ходил, а тому уж четверть века минуло, у нас в роте Кузьмич был, так он с Карлой сим под Нарвой дрался, когда война только начиналась. И под Головчином дрался, потом и под Полтавой. А вот татары его стрелою убили — старый он уже был, намного более, чем мне сейчас, вот и не увернулся, не успел. Так, о чем это я? А, вспомнил. Вот он и рассказывал, что Карла сей отчаянной храбрости был, со шпагой первым шел, и многих наших солдат поколол. И только раз его победили, под Полтавой. А более ни разу — он нас часто побеждал. Так Кузьмич говорил, что под Полтавой мы их многолюдством задавили — на одного шведа трое наших навалились. А Карла в бою не было — ему ногу за три дня до боя раздробили, вот он в атаку и не пошел. Повезло нам крепко…