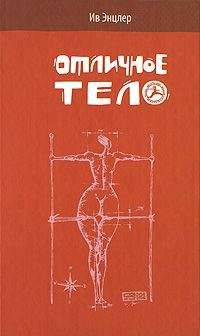В. Бирюк - Парикмахерия
Но тут всунулся Потаня. Еле ходит, одна рука плетью висит, но вот же — прибежал дочку спасать. Раньше воспитывать надо было. Сказано же: «не ослабевай бия младенца». А то «будут многие ущербы» и беды от соседей и начальства. Здесь «беда» выглядела как разбитый нос Ольбега — споткнулся об Потанину ногу, въехал лицом в стену…. Как местные относятся к разбитым носам — я уже говорил. «Пролить кровь господина своего»… Для холопа — смерть автоматическая. Обычно — показательная и мучительная. Показывающая очевидную истину: «вот так делать нельзя». Если владетель такое спустит — он сам долго не проживёт. А если учесть, что у заявившегося, наконец-то, на место событий Акима, нос тоже клюквой…
Я не знаю, почему местные сравнивают разбитый и опухший человеческий нос с этой ягодой. Ни картошки, ни помидоров здесь нет, но почему именно клюква?
Стремительно нарастающее физиогномическое сходство деда и внука, как в очертаниях, так и в расцветке, было немедленно отмечено присутствующими. И — озвучено Хотеном.
«Поэт в России — больше, чем поэт.
В ней суждено поэтами рождаться
Лишь тем, в ком бродит гордый дух гражданства,
Кому уюта нет, покоя нет».
То есть, практически, всем. «Уюта нет, покоя нет» — а кому сейчас легко? А где вы видели спокойных людей на Руси? В которых ничего не «бродит»? Я уж не говорю о «духах».
У нас же постоянно как на похоронах: на одного уже спокойного — несколько десятков всё ещё беспокойных. Просто поминки ещё не начались. А уж там-то… и споём, и спляшем.
Любит наш народ поэзию. Особенно — в обработке. В своей. Как звучит Пушкинское:
«Во глубине сибирских руд
Сидят два старика и ср…т»
помню с детства. А какие аранжировки местные делают по мотивам «Богородицы»! Хотен тоже оказался не чужд «живаго великорусскаго языка». Понятно, почему при такой коллекции фамильных портретов с ярко выраженной общей чертой его потянуло на «Мороз — Красный Нос». Но неверное цитирование даже вершин отечественного фольклора вызывает агрессивно окрашенное раздражение слушателей. Даже если тихонько бормочется под нос. Особенно — перевирание оригинала в форме:
«Аким-воевода с позором
Бежит по владеньям своим».
Аким к этому времени уже прожевал в клочья одно полотенце. Пришлось посылать за вторым. Болтливый дурак — это плохо. Болтливый, наглый, что-то знающий — плохо втройне. Хотен по случаю, уже прозой, процитировал высказывания Чарджи из прошлой разборки. Насчёт моих необщих умений, подцепленных, якобы, у волхвов.
– А где этот… торчок?
– Дык… где-где… известно где — у боярыни в… в опочиваленке.
Известно это было всем. Кроме Акима Яновича. У деда хватило выдержки сначала догрызть и порвать в клочья очередное полотенце. А уж потом заняться людьми.
Охрим, конспективно пересказывавший мне эту ссору, не только не мог, но, в отличие от мучающегося в отдалении с бревном на плече Хотена, и не хотел воспроизводить максимально подробно последовательность сделанного. И — сказанного. Чарджи тоже… налился лицом, поджал губы и был крайне краток:
– Я пришёл. Он сказал. Я пошёл. Собирать вещи.
Если учесть, что Чарджи пришёл из опочивальни Марьяши, то представляю, что Аким ему сообщил. Пересказывать грубую ссору в большом семействе — бессмысленно. Рваный, беспорядочный поток мелких движений и громких слов. Сплошные эмоции. У деда явно отказали тормоза, а Яков ещё лежал со своей раной. Остановить владетеля было некому. Сунувшийся, было, к деду Ольбег — получил по полной. И даже с избытком: Аким подробно изложил любимому внуку своё представление о морально-сексуальных качествах его матери и его самого, как продукта реализации этих свойств.
Охрим краснел и мялся, пересказывая монолог деда: «ну… он и говорит… вроде как…». В постоянно возникающие паузы Чарджи вставлял точные короткие цитаты из первоисточника: «курва драная, змея подколодная, выблядок поганый, курвино отродье, сопля безмозглая, ублюдок безродный…». Торк явно обиделся серьёзно и по сю пору ещё не отошёл.
И не он один. Чувства Ольбега, публично объявленного ублюдком, «плодом греха и мерзкой похоти», незаконнорождённым, безродным… можно себе представить. Объявленного родным и любимым дедом, символом мудрости и доблести, объектом подражания и восхищения… Ославленного, опозоренного перед собранием всего населения усадьбы и перед этой самой робичкой, которую он за куда меньшие слова пытался наказать. Стыд сжигающий. За несколько минут неуправляемого словесного поноса, высказанного от всей души, Аким Рябина разрушил всякие нормальные человеческие отношения в своей семье.
Я знал немало людей, которые почитали безудержную откровенность в кругу родных и близких — великой добродетелью. «Да кому ж мне всё не высказать как родным? Я — честный, всё что думаю, как чувствую — так и говорю. Вот ещё — политесы разводить! Я в своём доме, в своей семье — мне ещё и тут думать — как сказать вежливо?!». И выворачивают всё своё, всю душу, всё нутро на родных, на близких, на дорогих и любимых. А про то, что в каждом нормальном человеке нутро его содержит не менее 4 килограммов дерьма — как-то забывают. Или говорят: «ну это же дерьмо — моё. Это же часть меня. Пусть меня и таким любят». Пусть. Только не удивляйся, если на тебя впредь будут смотреть не как на нечто умное, доброе, красивое, а, в первую очередь, как на вместилище четверти пуда человеческого кала. Конечно, родное и близкое, но… вместилище.
– Глава 103
Публичность этого «Последнего дня Помпеи» предполагала реакцию зрителей. Которая последовала. Любава, прижавшаяся к отцу в толпе дворни, выдала стандартную женскую фразу: «Ну я же говорила!».
У Шолом Алейхема один из персонажей постоянно тяжело вздыхает: «Если бы я был таким умным как моя жена потом!». Так это он ещё не слышал финского аналога данного международного женского выражения: «мина ё пухуин!». На мой русскоязычный слух напоминает отчёт сапёра-неудачника о полётах над минным полем.
Как мужчины реагируют на этот озвученный указатель собственной глупости…. Пошёл третий рушник. Или уже четвёртый? Понятно, что взрослый мужчина, владетель, княжий сотник — малявку просто не видит и не слышит. Чем-то похоже на выгуливание собак: собаки не обращают внимания на людей — только друг на друга. Так же реагируют на окружающих и маленькие дети — они разглядывают друг друга, тянутся из колясок, меняются или хвастаются игрушками. И совершенно не замечают взрослых, которые катят эти коляски или подают им игрушки.
Аким Любаву просто не заметил, но на глаза владетелю попался Потаня. После выразительного рассказа владетеля холопу о нем самом, о его жене, дочери, любовнице и отце, Потан услышал «радостную новость» — о своём полном освобождении от холопского состояния. И от пребывания в усадьбе.
В эпоху расцвета Древнеримской Империи вольноотпущенники составляли целый социальный слой. Римляне относились к ним презрительно, но опасливо. Именно эти люди «держали» в своих руках большую часть бизнеса, да и верхушку имперской администрации. Именно вольноотпущенники давали обедневшим патрициям деньги в долг и служили ближайшими советниками императоров. Как правило, получив личную свободу, они оставались членами «дома», поддерживали своего прежнего хозяина и выполняли его поручения.
Так что, акт «освобождения» раба в Древнем Риме или Древней Греции был, как правило, выражением доверия рабовладельца и свидетельством трудовой и интеллектуальной самостоятельности бывшего раба.
На «Святой Руси» освобождение — особо жестокое наказание.
«К чему свободы вольный клич!
Стадам не нужен дар свободы,
Их должно резать или стричь,
Наследство их из рода в роды —
Ярмо с гремушками да бич».
Ах, Александр Сергеевич, ну что ж вы так постоянно правы! Ни одна социальная система, включая рабство, невозможна, если её не поддерживает подавляющая часть населения. «Свобода» отнюдь не синоним процветания, благосостояния, справедливости и прогресса. Получив новую свободу, люди ещё долго продолжают следовать прежним ценностям — «Ярмо с гремушками да бич». Уже вполне свободно. Даже с риском для собственной жизни. И вполне демократически выбирают себе в правительство убийц-террористов — в Газе, или нацистов — в Веймарской республике.
Здесь, на «Святой Руси», слово — «свобода» означает для холопа «изгнание». Что такое «изгой», «изверг» — я уже говорил. Человек, лишённый общины, защиты и поддержки своего рода, своей сословной группы, просто — хозяина своего, немедленно превращается в «монету ходячую». Которую каждый кто сильнее — стремится «прибрать». Исключение — ни на что не годные люди. Больные, калечные, старые. Таких рабов — «отпускают для помирания». Чтобы не кормить бесполезного старика, чтобы не тратится на похороны. «Освобождение на смерть». Как выгоняют со двора старую собаку.