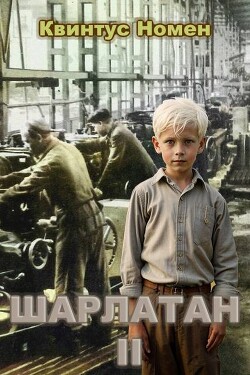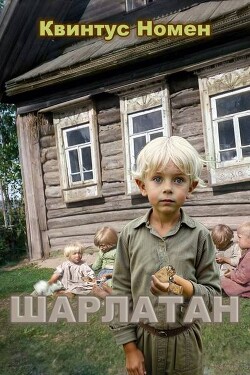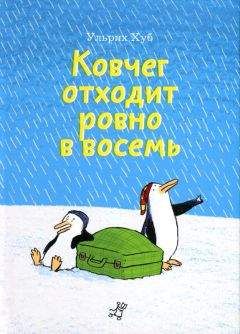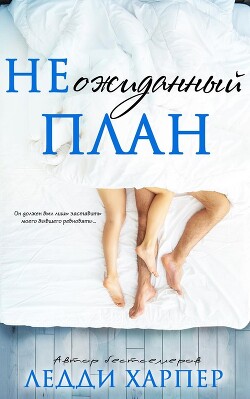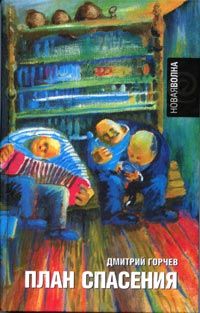Шарлатан 3 (СИ) - Номен Квинтус
Но в основном в деревне люди денежки дополнительные получали, работая в теплицах: оказалось, что тепла с электростанции и на них хватает — а в городе зимой огурцы и помидоры свежие продавались все же неплохо. Причем чтобы за свежие овощи деньги получить, людям даже ездить на рынок не нужно было: Ворсменский ОРС каждый день в деревню машину присылал, которая все, что народ продать хотел, и забирала. И у нас дома «торговлей овощами» занимались Маруся: сестренке уже полностью доверили вести сбор урожая в теплице, чем она очень гордилась.
А я тоже гордился, правда совсем иными делами: мне пришлось очень серьезно озаботиться «координацией обеспечения мебельных предприятий сырьем», а более точно, решать вопросы распределения березы. Вообще-то береза — очень ценное дерево. Из коры ее делают деготь, который, кроме всего прочего, еще и в медицине оказывается полезным, а из древесины делают дрова и уголь для шашлыков. Дрова, конечно, очень хорошие — и всё, то есть не все, из нее еще вроде фанеру делают и паркетную доску. Поэтому береза не считается «ценной древесиной», а раз она совсем не ценная, то и мебель из нее получается недорогая. Вот только недорогая мебель получается когда береза есть, а когда ее нет, то уже не получается. И для многочисленных нижегородских мебельных артелей березы запасли в достатке, а вот для новых, тех же воронежских, например, ее просто не было. Потому что ту березу, которую мебельщики себе сразу не забрали, тут же на дрова и рубили — а из дров почему-то мебель было уже не сделать. Правда в лесу березы было много — вот только для мебели годилась лишь та береза, которую срубили в период с конца ноября (а лучше с середины декабря) и по середину февраля: именно в это время древесина считалась «достаточно сухой».
То есть считалась, но даже такую требовалось еще пару месяцев как-то дополнительно сушить. Но это чтобы мебель делать «из массива» требовалось, а если делать клееную, то можно было и «ускоренной сушкой» заняться. Но все равно береза требовалась «зимняя», так что все воронежские новенькие фабрики просто стояли и ничего не делали до конца ноября. То есть все же делали разную мелочевку и осваивали новое оборудование, но пока выручки от их продукции даже на зарплату рабочим не хватало. Но это лишь пока, а вот в ноябре начались поставки той же березы в Воронежскую область откуда-то с северов — и фабрики потихоньку заработали. А еще на фабрики завезли уже и настоящую «ценную древесину», в Воронеж откуда-то товарищ Жуков даже пару вагонов махагона притащить сумел. Но в основном на фабрики пошел дуб, бук (красный и белый), кипарис…
Я слышал, что кипарис для мебели вообще не годится, но это если его просто так брать. А вот в виде шпона — у него рисунок довольно необычный и с таким шпоном можно довольно красивую мебель сделать. Красивую, но не особо и популярную — но когда с другой красотой имеются проблемы, то и такая сойдет. Однако шпон (а всю эту «ценную» только на шпон и пускали) без основы — ничто, а пока еще березы было маловато — и я, как проклятый, считал, сколько на какую фабрику дров отправить. Потому что больше считать было просто некому: там такие нетривиальные сетевые графики рисовались, что человеку неопытному в них запутаться было раз плюнуть. А если запутаться, то рабочие опять себе на зарплату не наработают, опять КБО в долги влезать придется. Точнее, не придется: больше Комбинату никто в кредит и копеечки не даст. Так что считать, считать и считать приходилось именно мне, так как я, все это и затеявший, лучше всех знал, какие у кого новые станки появились и что на них на самом деле можно сделать.
И в самом конце ноября воронежские мебельщики наконец начали работать почти что в полную силу. Лично у меня был особый интерес к восстановленной из руин фабрики в поселке Сомово под Воронежем, причем чисто ностальгический интерес: когда-то моя жена приобрела для дома мебель именно их фабрики и мне в голову втемяшилось и здесь себе такую же заказать. То есть я даже заказал, и сумел большую часть запрошенных для ее изготовления станков туда отправить, но в любом случае вряд ли там успеют мой заказ в этом году исполнить. Тем не менее эта фабрика выделялась из всех прочих тем, что там хотя бы рабочие были уже опытные — и она могла лучше прочих начать возврат слишком уж быстро истраченных на восстановление области средств. Однако и на остальных рабочим нужно было денежку хотя бы на себя заработать — так что управлять потоками дешевой березы приходилось с учетом и этого фактора. Пока приходилось: по планам, рассчитанным уже Зинаидой Михайловной, с января все эти фабрики начнут нормально работать, не ожидая поставок бревен как манны небесной, а за зиму и запас сырья смогут сделать на весь следующий год…
И вот, общаясь в процессе распределения дров с мебельщиками, я узнал много нового и интересного, что заставило меня опять «заняться станкостроением», правда на этот раз только в Сергаче. Оказывается, что красное дерево — штука потрясающе красивая. Дуб с буком тоже ничего, но до махагона им еще расти и расти. Не в смысле «ввысь» или «вширь», а в смысле потребительских качеств. Потому что на буке и даже на дубе нож лущильного станка «садится» после обработке пары десятков стволов, а на махагоне — уже после одного. И после этого нож этот нужно перетачивать, а перетачивать двухметровую железяку так, чтобы отклонение от идеальной прямой не превышало десятой доли миллиметра очень непросто. Очень-очень непросто, вручную хороший мастер такой нож выправляет примерно весь день, да и то, если никто его при этом злить не будет. А точильные станочки, которые в Сергаче делались, для такой работы вообще не годились — и пришлось тамошним инженерам придумывать новый станок. Тамошние инженеры очень тщательно подумали, затем обложили меня матом — после чего мне пришлось подключать к работе уже инженеров Станкина. Затем — уже инженеров приборостроительного (чтобы разработать автоматику, способную точить нож с учетом износа точильного круга), потом еще и специалистов из ВИАМа задействать пришлось, чтобы те сказали, из чего такие ножи вообще изготавливать можно…
Зинаида Михайловна, после того, как подписала очередную пачку присланных за все эти работы счетов, не поленилась, приехала ко мне с копиями и поинтересовалась, очень вежливо поинтересовалась:
— Вовка, а может ну ее к… этим самым, программу по разработке деревообрабатывающих станков, я имею в виду. Траты-то получаются бешеные, а выхлоп…
— Выхлоп будет, причем скоро, — ответил я, не отрываясь от присланного из ВИАМа «отчета по исследованию». Вот, нам прислали очень интересную бумажку по поводу фрез для обработки кромок панелей, они даже готовы нам десяток-другой таких фрез изготовить.
— А кроме них что, никто фрезы у нас в стране уже не делает?
— Делают, но не такие. ВИАМ за каждую просит всего по шестьдесят две тысячи рублей.
— Они с ума сошли, то есть это ты с ума сошел.
— Нет. Там сплав используется, который сам по себе стоит тысяч пять за килограмм, плюс обработка очень непростая, и доводка с правкой… кстати, установка для правки сама по себе тысяч в тридцать обойдется, и сырье для нее очень недешевое. Но эта фреза по буку без правки проходит двадцать-двадцать пять километров кромки, со скоростью до пяти метров в минуту. Это — один обеденный стол или шкаф очень непростой, и на каждом предмете мебели фреза нам сэкономит уже рублей по десять. То есть чистая экономия получится сорок тысяч до правки, а всего, по прикидкам, за время службы она даст экономию уже заметно больше полумиллиона — это с учетом всех затрат на правку. И выпуск мебели увеличит процентов на пять, а то и на десять. Правда, нам теперь придется отдельную мастерскую, даже отдельный заводик небольшой строить для правки всех таких фрез…
— Ты это как посчитал?
— Подождите полчасика, я вам все расчеты передам для проверки. А сколько мы у ВИАМа фрез закажем… надо опять по всем мебельным пробежаться, с мастерами поговорить по поводу планируемого ассортимента, но, надеюсь, полусотни для начала нам хватит.