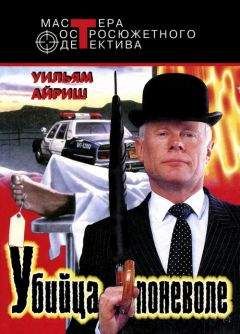Лауро Мартинес - Лоредана
В тринадцать лет, чтобы спастись от жестокого отца (мать ее умерла), Бетта убежала из своей горной хижины с проезжим мужчиной, который привез ее в Болонью, где они сожительствовали несколько месяцев. Когда она забеременела, он изругал, избил ее и выгнал на улицу. Ей некуда было идти, и она вернулась в горы, и там, несмотря на постоянные побои своего отца Нуччио, произвела на свет мальчика. По наущению отца, желая заслужить его одобрение, она задушила младенца, однако Нуччио внезапно передумал и донес на дочь. Бетту арестовали, привезли в Болонью, допросили и признали виновной. Во время допроса она поведала о своем страхе перед отцом и о том, что задушила ребенка по его принуждению, но никто ей не поверил, в конце концов именно отец ее и обвинял.
Что за лицо у нее было, когда она говорила, о Боже мой! — картина боли, страха и стыда. Бетта хотела понять жестокость своего отца, но не знала, как высказать свое желание. Она жаждала прощения, но не умела попросить его. Она мечтала, чтобы ее поняли, но не понимала, как выразить это словами. Она хотела помолиться Господу и призвать Его на помощь, но не могла сделать и этого — настолько примитивным было ее религиозное и моральное чувство.
Лгала ли Бетта малодушно, пытаясь с помощью обвинений в адрес отца избежать пламени? У нее не было ни сообразительности, ни самообладания, чтобы сделать нечто подобное. Я смотрел на это детское лицо добрых пять часов. Ей было только тринадцать, хотя судья объявил, что ей пятнадцать, чтобы его приговор не казался чересчур суровым. Я оставался рядом с ней, я внимательно наблюдал, и когда она вышла из лохани, я почти обонял правду, исходившую от нее. Если Бетта была лгуньей, тогда каждый из нас лжец сто тысяч раз. Нет, она говорила правду. Но поскольку ничего нельзя было сделать, чтобы спасти ее от смерти на костре, я мог только остаться рядом с ней до кровавого конца. Когда ее везли по Болонье, выставленную на всеобщее обозрение, с трупом ее ребенка на шее, я шел рядом с повозкой, а ей вслед выкрикивали оскорбления и бросали гнилые фрукты. Но среди тысяч зрителей, как мне сказали, большинство казались сдержанными или напуганными. Пока длилась эта пытка, глаза Бетты были прикованы ко мне. Она исповедалась, она раскаялась самым сокрушенным образом, я отпустил ей грехи и заставил ее поверить, что она увидит Бога. Я также внушил ей, что, задохнувшись в самом начале от дыма, она почти не почувствует боли от огня. Но здесь, увы, я жестоко ошибался. Палач позаботился о том, чтобы пламя охватило ее всю. Ее крики пробивались сквозь отвратительный треск языков пламени. Я увидел, как загорелись ее волосы, кожа поалела, побурела, почернела, а маленький труп на ее груди превратился в тлеющие угли.
Скажите мне, отец Клеменс, разве мы живем по старому закону евреев: око за око? Я думал, что Иисус пришел к нам с вестью о любви и сострадании. Разве могли крики Бетты оживить ее младенца? Все верхние города, все правительства и важные особы ответственны за то, что Болонья сделала с этой тринадцатилетней детоубийцей, которую вырастили почти как животное, в полном незнании мира и без всякого понятия о добре и зле. Этого достаточно, чтобы проклясть все власти мира сего.
Рассказав историю Бетты в начале этой исповеди, я могу вернуться к своим истокам, однако я должен поторопиться.
У меня есть основания полагать, что я родился в Венеции в 1501 году и был сыном… Но нет, забудем о первых годах. Главное — найти те узловые моменты, за которые цепляется моя память, и настоящим началом была Флоренция. Мне было семь, и я прибыл из далеких земель, а потому разве могу я забыть, как впервые увидел гигантские стены Флоренции? Я сидел верхом за спиной незнакомца, держась за его ремень, мы спустились в долину реки с северных холмов, и я увидел стены и огромный парящий купол посередине. Вода серебряной нитью разрезала город. Оказавшись внутри стен, мы сразу же окунулись в месиво людей, мулов, повозок, криков, колоколов, иноземных костюмов и голосов и незнакомых запахов. Мы пересекли реку и подошли к большому зданию, где меня поселили в доме мессира Андреа ди Дзаноби де Барди, главы старой семьи. Им требовались деньги, а мое проживание там должно было приносить им ежегодно хороший доход, и поэтому они приняли меня под видом дальнего родственника. С ними я провел шесть лет: с отцом, мессиром Андреа, его матерью монной Лукрецией, его женой монной Алессандрой, их старшими сыновьями Пьетро и Дзаноби и маленькими дочерьми Ванной и Примаверой. Я был самым младшим.
Позвольте мне упомянуть эти детали, отец Клеменс. Я откликаюсь на зов прошлого.
Мне приходится тщательно подбирать слова, чтобы выразить свои ранние впечатления. Каковы были мои первые чувства во Флоренции? Я был напуган. Я был смущен. Я был осторожен. По коже бегали мурашки. Я с трудом понимал Барди, а каждый раз, когда сам открывал рот, чтобы заговорить, хотя бы сказать «да», «нет» или «пожалуйста», все потешались над моим смешным выговором. Я не понимал, в чем дело. Сначала я думал, что у меня неправильный рот, и иногда потихоньку засовывал туда пальцы и ощупывал язык.
Мессир Андреа сказал, что со мной будут обходиться так же, как и с другими детьми. Моими единственными обязанностями было учить уроки и молча и быстро исполнять все, что мне скажут. Занятия проходили недалеко от дома, у нотариуса, сира Уго ди сир Биндо Бинди, который учил мальчиков группами по три-четыре человека грамматике и арифметике.
Дом сира Уго и оживленная улица за его дверью стали моей Флоренцией — болтливым, хитрым, жестоким городом. Вот где я научился защищаться от мальчишек из семей Содерини, Каппони и Гуиччиардини. Особенно двое из них казались рослыми, крепкими и драчливыми. Это Флоренция, и попасть туда — все равно что окунуться в ледяную воду. Если дома мой непривычный выговор вызывал только смех, то дома у сира Уго меня презирали, называя паршивым иностранцем, животным, деревенщиной с ослиным голосом. В результате моя речь изменилась, как мне сказали, с невероятной быстротой, и я стал говорить, как флорентийцы. Новые звуки вскоре стали вылетать у меня изо рта с той же легкостью, с какой в нос залетали запахи Флоренции — мокрого камня, хлеба, кожи, укропа и медовых сладостей, ладана, мутной Арно и странный лиственный запах тяжелой шерстяной одежды. В небе стоял незнакомый величественный звон колоколов, звук, которого я не слышал в деревне рядом с Венецией.
Перебирая в памяти годы, проведенные мной в доме Барди, я ищу события, повлиявшие на меня. Это были не патриотические представления, столь любимые флорентийцами, — празднества в день покровителя города святого Иоанна, когда все торговцы выставляют на улицах свои лучшие товары, а рыцари и чиновники в пышных одеждах устраивают парад по Флоренции. Нет, меня потрясло нечто другое, и, должно быть, впервые я увидел это, когда мне было около девяти. С двумя мальчиками постарше мы пошли через реку в главную часть города и вдруг услышали трубы и увидели медленную процессию. Мы внезапно стали свидетелями публичной порки и истязания бедняги, которого вели на виселицу. Его измученные крики хлестали меня, как удары. Это было кровавое зрелище, заставившее меня содрогнуться. Разрываясь от жалости к этому человеку, я поспешил через Старый мост и вернулся домой в слезах.
Будучи послушным ребенком, я заслужил порку мессира Андреа лишь три или четыре раза — очень мало по сравнению с тем, что получали другие мальчики во Флоренции. Я часто замечал синяки на их руках и щеках. По субботам, в первый год моей жизни у Барди, меня купали с сестрами, Примаверой и Ванной, наши волосы мыли и сушили особыми полотенцами. Но даже после того, как нас перестали купать вместе, они продолжали называть меня своим милым медвежонком, il bel Orsino, целовали и часто наряжали в свои платья и накидки. Они защищали меня — как я любил их! — и смягчали ту злобу, что творилась вокруг дома сира Уго. Когда мне было около одиннадцати, в этом доме случилось чрезвычайно неприятное происшествие. Я предупреждал всех Барди, особенно монну Алессандру, которую я очень любил, что сынок Содерини, прыщавый Ветторио, был для меня настоящим мучением, постоянно пытался больно пнуть меня, отпихнуть локтем, плевался и обзывался. (Она отвечала, что я должен всячески избегать его и сдерживаться, что бы ни случилось. Его отец был большим человеком в правительстве, и так, мол, устроена жизнь.) Поэтому Барди не удивились, хотя и ужаснулись, когда однажды я пришел домой весь в крови. У дома сира Уго Ветторио подошел ко мне, когда я, сидя на коленях, подтягивал чулок, и пукнул прямо мне в лицо, за что я обозвал его свиньей. Я думал, что на этом все закончится, как он вдруг снял туфлю и ударил меня по лицу. Из носа пошла кровь, и в следующие несколько секунд в голове моей все помутилось от ярости. Я бросился на него, мы упали и покатились по земле, а я все бил и бил его по лицу изо всех сил. Должно быть, позвали сира Уго, потому что он внезапно появился и растащил нас, и теперь из носа Ветторио тоже лилась кровь.