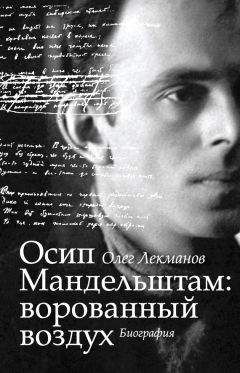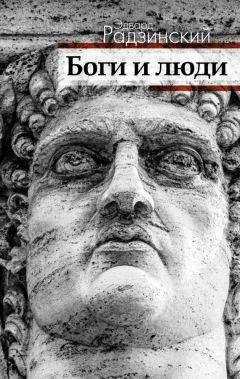Олег Радзинский - Агафонкин и Время
– Нет, – согласился Гог, – там, где вы юлу не видели, искать не стоит. Искать, друг мой, стоит там, где вы ее видели.
– Да я ее нигде после не видел, – начал Агафонкин и замолчал. Замолчал, потому что вспомнил: видел. Видел.
Агафонкин вспомнил, где видел юлу.
Часть третья
Юла
К последнему морю
Надобно помнить, что тайчиутов с нами меньше, чем джаджиратов. Если я об этом забуду, Джамуха не забудет: джаджираты – его народ. Мой побратим, мой анда, он помнит все. Ждет, когда ошибусь. Хотя сам пока не знает. Но я внимательно читал историю наших отношений и оттого должен быть осторожен.
Да и не все тайчиуты мне преданны: на кого рассчитывать? Борджигины, мой клан, родная кровь. Кто еще? Боорчу и его люди; они со мной до конца жизни. Джелме и его нукеры. Кто еще? Кто еще?
Ах, Агафонкин, Агафонкин, что ты наделал? Как же это случилось?
Бесцельный вопрос: смысл жизни – ветер в степи. Просвистал, ударил по щекам, как нагайкой, и понесся дальше.
Думал ли я, что снова заговорю на монгольском – самбайно-баяртэ? Здравствуйте-до свиданья. Му-сайн. Плохо-хорошо. Хан-хаша. Где-куда.
Но сейчас главное слово для меня – цак.
Время.
Маму звали Хонгорзул. По-монгольски – Тюльпан. Мама окончила мединститут в Иркутске и оттого хорошо говорила по-русски. Со мной она говорила только по-монгольски. Отец говорил со мной по-русски, переходя на якутский, когда сердился. В детстве я часто путался в языках.
Я начал забывать монгольский, когда нас с отцом увезли в Аhаабыт Заимката – Заимку Прокаженных.
Хордогой – хорошее место у воды.
Мама работала врачом в санчасти на Чойр-2. В 1981-м командование 246-й истребительной авиационной дивизии 23-й Воздушной армии ВВС СССР приняло решение о приеме местного медицинского персонала на работу в размещенные в Монголии части: своих медиков не хватало – угнали в Афганистан. Моя мама, доктор Тюльпан, устроилась в медсанчасть на военный аэродром и встретила моего папу – летчика-истребителя Романа Олоницына. Они тогда не знали, что ее дед, атаман Канин, расстрелял его деда, фельдшера Макария.
Мы жили посреди монгольской степи, где раз в год солнце становилось любовницей ветра. Я знаю: мне рассказывала старая бабушка Сугар. Солнце ложилось спать с ветром зимой, поэтому наступали холод и темнота. Потом у солнца рождалась весна – лучшее время в степи: пряные травы по пояс, цветы без края, синее яркое выспавшееся небо, в которое с нашего аэродрома улетали узкие МиГ-23. Мама выходила из медсанчасти и, приложив козырек ладони ко лбу, следила за папиным истребителем. Пока сухим майским утром за ней не пришли.
Голоса за пологом юрты: нукеры меняют стражу. Или Джамуха решил перейти на сторону меркитов? Нет, это позже, позже; сейчас мы братья, анда.
Рассвет
Нукеры седлают коней
Ищут смерти
Смерть ищет их
Встреча назначена в поле
Надо перестать думать о себе, как о нем. Надо думать о нем, как о себе. Шизофрения. Надо думать, как бы он думал. А он бы думал, на кого можно рассчитывать завтра в бою.
Повезло, что я хорошо держусь в седле. Когда в шестнадцать лет я ушел из лепрозория, то устроился ездить с геологами по экспедициям – все на лошадях. Никто в Вилюйске не хотел брать меня на работу – я был аhаабатэр. Проказный. Несмотря на справку, что абсолютно здоров.
И повезло, что в детстве много стрелял из лука.
Жилые корпуса офицерского состава Узла наведения авиации на Чойр-2 – обычные советские блочные дома. Трехэтажки. Мы жили на втором этаже – две комнаты, кухня. Раздельный санузел. Мама привезла из становья, где выросла, приданое: ковры на стены и стеганые одеяла с монгольским орнаментом, которыми был застелен мой диван в большой комнате. Я проспал на этом диване первые шесть лет жизни. Он казался мне очень большим.
Из окна кухни был виден двор с беседкой, качелями и большой клумбой. За клумбой тянулся высокий цементный забор, ограждавший аэродром, на заборе яркой красной краской было выведено: “Да здравствует советско-монгольская дружба!” С двух сторон от надписи взлетали нарисованные истребители МиГ-23 – залог дружбы.
Каждый год медицинский персонал части проходил проверку. Мама и старший врач Нина Николаевна уезжали на диспансеризацию в командование полка в Улан-Батор и возвращались на следующий день на поезде, приходящем в полдень на станцию 18-й разъезд. Мама рассказывала смешные истории про начальника медицинской службы майора Хрулева – он пил отведенный для стерилизации спирт, не разбавляя и не закусывая. Мама и Нина Николаевна возвращались с сумками, полными продуктов, купленных в полковом магазине офицерского состава. Считалось, что служащие должны питаться в зависимости от звания.
Агафонкин посоветовал говорить поменьше. “Отдавайте приказания, Иннокентий. Все-таки этот монгольский отличается от вашего монгольского”. Отличается, но не очень.
Я иду прямо – би шот явна.
Я хочу пить – би ухмаар байна.
Я хочу спать – би унтмаар байна.
Сколько это стоит? – Ин ямар ун теве? Эта фраза мне, возможно, и не нужна. Она для другого мира. А вот эта, боюсь, будет нужна часто: “Би ойлгохгуй байна”. “Я не понимаю”.
Что еще? Ах, да – “Иньювэ? Иньювэ?”
Иньювэ? – Что это? Мама продолжала повторять “Иньювэ?”, когда за ней пришли ранним майским утром. Прошла неделя после диспансеризации в Улан-Баторе, и в нашу дверь на втором этаже постучали. Папы не было – он дежурил по части, составлял график учебных полетов. На лестничной клетке стояли лейтенант медицинской службы и два солдата. Они были в хирургических масках и резиновых перчатках. Лейтенант поздоровался и дал маме бумажку. Она посмотрела и, казалось, не поняла.
Иньювэ?
Ей велели надеть такие же маску и перчатки. Маме не разрешили взять ее вещи, и она ушла в домашнем халате и тапочках. Я не видел ее лица из-за маски – только глаза. Она не плакала, хотя ей не позволили меня поцеловать. Почему? Что это могло изменить? Она целовала меня каждый день на протяжении шести лет.
Би митх гуи.
Я не знаю.
Меня заперли одного в квартире, на лестничной клетке перед дверью поставили солдата. Через полчаса дверь открыли, солдат вручил мне маску, перчатки и знаками велел надеть. Возможно, думал, что я не говорю по-русски. Я вышел, солдат запер за мной дверь и опечатал ее желтой лентой.
Мы спустились вниз, где у подъезда стоял военный газик. Заднюю дверь открыли, и я увидел папу. Он сидел на лавке в кузове, отгороженном решеткой от водительского сиденья. Папа был в полевой форме, без фуражки. И без пилотки. Зато в белой маске и резиновых перчатках. Маска ему шла: оттеняла желтоватый цвет лица. Я забрался в газик, и мы отправились в новую жизнь. Оба в масках, будто ехали на карнавал.
Больше я маму не видел: она умерла в лепрозории в соймоне Сэргэлэн аймака Дорнод. Мы получили письмо, когда мне было тринадцать. Папа хранил его в тумбочке, и когда он сам умер два года спустя, я забрал письмо. Оно было отпечатано по-монгольски, на официальном бланке. К письму был приложен русский перевод – вторая копия на машинке. Интересно, кому отдали первую?
Мама умерла не от проказы: она умерла от воспаления легких. Папа тоже умер не от проказы. Он умер от пьянства. Проказу ни у него, ни у меня так и не нашли.
Проказа. Иньювэ?
Из памятки вилюйского лепрозория, висевшей над столом с лекарствами у поста медсестры:
Лепра – хроническая инфекционная болезнь, поражающая преимущественно кожу и нервную систему, реже внутренние органы. Микробактерии лепры, которые являются возбудителями болезни, открыл в 1873–1874 гг. норвежский врач Герхард Хансен (поэтому бактерии лепры называют палочками Хансена, а сам недуг – болезнью Хансена). У лепры очень длительный инкубационный период: 7–10, а в редких случаях и 25 лет. Четверть века человек может носить в себе бациллу и не знать, что он заражен. За все эти годы явные внешние признаки болезни могут не проявиться. Кроме того, лепрологи называют лепру “великим имитатором”, потому что она может скопировать почти любую кожную болезнь. Во врачебной практике были случаи, когда людей годами лечили от тяжелого дерматита или экземы, а потом выяснялось, что они инфицированы палочкой Хансена. Поэтому, если имеется хоть малейшее подозрение потенциального инфицирования, врачи рекомендуют обследоваться на лепру.
Вот нас и обследовали.