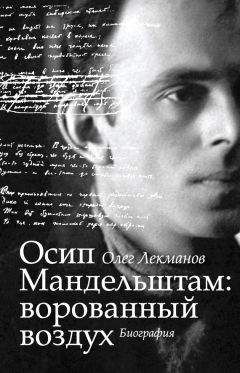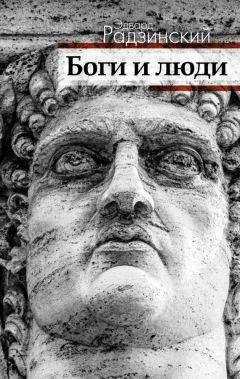Олег Радзинский - Агафонкин и Время
Алина плохо видела гимнастов: взрослые были много выше ее, и она видела только спины загораживающих эстраду людей. Она поправила сползшую на лоб светло-кремовую панамку, одернула матроску и накрыла вертящийся волчок юлы ладошкой.
Откуда взялась эта юла? Ниоткуда: просто была. И вертелась.
Любовь нечаянно нагрянет,
Когда ее совсем не ждешь…
– заполнила киевский Парк Пушкина музыка из еще не вышедшего на экраны страны кинофильма. Алине, впрочем, было все равно. Она поднялась с корточек, зажав в руке юлу, и пошла к выходу: нужно было найти поселок маронов, пока ее не поймали.
– Девочка, – услышала она голос у себя за спиной, – девочка, какая у тебя красивая юла.
“Густавус-Агропо? – подумала Алина. – Мистер Блэйр с сачком?” Она захотела расправить самые большие в мире крылья и улететь. Алина вспомнила, что уже не бабочка и не может летать, хотя до конца не была уверена – ведь мы никогда не перестаем быть бабочками are we mr blair? Алина обернулась.
– Красивая у тебя юла, – повторил высокий зеленоглазый мужчина. – Я видел, как ты ее запускала. Долго вертится.
Алина смотрела мимо Агафонкина – не прячется ли за ним Густавус-Агропо. Потом на него – не прячется ли кто-нибудь в нем. Нет, он был, кто он был: высокий, стройный, широкоплечий зеленоглазый красавец с кольцами каштановых кудрей. Ничего интересного. Алина улыбнулась.
– Хотите повертеть? – спросила Алина.
Киевское солнце неожиданно перестало быть ласковым и из желтого стало пунцовым, наливаясь тревожным цветом, чернея по краям. Мужчина медлил с ответом.
– Хочу, – признался Агафонкин. – А можно?
Алина протянула юлу.
Когда мужчина пропал, закрутившись, закружившись, завертевшись в трехцветье волчка и смешавшись с теплым летним воздухом выходного дня, Алина подняла юлу с земли. Гладкие бока холодили ладони.
Алина смотрела на юлу. Катя продолжала всхлипывать в подсиненную наволочку Глашиной подушки, и от недокуренной папиросы в пепельнице на кухонном столе вился умирающий удушливый дымок, теряясь в желтом мареве круглой лампы под потолком.
“О чем она плачет? – пыталась вспомнить Алина. – О чем ей плакать? Это мне нужно плакать”. Она понимала, что ей показали возможное будущее: или отрубят ноги, или посадят в стеклянную банку, а затем усыпят и наколют на булавку. Алина Горелова не хотела такого будущего.
Ей показали и спасение – юла. Закрутить и унестись в Сиреневый мир Синей Птицы. Пустота, шорох теней.
Она тронула Катю за плечо.
– Катерина, – Алина показала глазами на юлу у себя в руках. – Что ты чувствуешь, когда ее держишь?
– Что? – спросила переставшая всхлипывать Катя Никольская. – Ты про что? – Она посмотрела на юлу. – Про это?
Алина кивнула. Бока юлы чуть вибрировали у нее в ладонях, словно хотели продолжить бег на месте, бег вокруг оси – как земной шар.
– Ничего. – Катя пожала плечами. Она выбила новую папиросу из коробки “Северной Пальмиры” на кухонном столе и прикурила, прищурившись от поплывшего в глаза дыма. – Это же юла, игрушка: что тут можно чувствовать?
Сцена у костра,
в которой обсуждаются титулы императора и цены на овец
Старый Ганжуур умер через два года после зимовья в Долине Озер – у него что-то лопнуло внутри. Утром Ганжуур поднялся с вытертой, душно пахнущей кошмы и вышел из юрты помочиться. Он приспустил ватные штаны, посмотрел на холодное раннее солнце и вдруг сел на землю. Он не кричал, просто сидел и тяжело дышал. Когда сыновья его подняли и понесли в юрту, одежда Ганжуура была склизкая от крови, смешанной с калом и мочой. Он жил еще два дня: в сознании, молча, глядя в одну точку перед собой. К вечеру второго дня старый Ганжуур перестал глядеть в одну точку.
Той весной их кочевье стояло в широкой долине в отрогах Хэнтэйских гор. Ближе к лету Ганжуур планировал подняться по реке Онон на север – к священной горе Бурхан-Халдун, у которой родился Чингисхан. Он ходил к Ивовой Горе каждые пять лет – поклониться и подумать о светлом боге Тенгри, боге-небе, что всегда над головой. Ганжуур размышлял о трех мирах, что создал Тенгри, и выкладывал на земле маленькими белыми гладкими камешками его имя .
После смерти Ганжуура его сыновья решили повернуть на юг – к реке Керулен. Они хотели держаться хороших пастбищ для скота и позже, к осени, пойти на Ургу продать набравших вес овец. Буряты, шедшие на север к великой реке Сэлэнгэ, рассказали им, будто Император и Светлейший Владыка Богдо гэгээн VIII, лишь три года назад восстановленный на монгольском троне прогнавшим китайцев русским бароном Унгерном фон Штернбергом, умер. Скорее всего, сказали буряты, Богдо гэгээна, полный титул которого был Шашны мандуулагч, амьтны жаргуулагч Жэвзyндамбахутагт Богдо гэгээн, что означало Светлейший, Возвышающий Веру, Осчастлививший Живущих, Святой Владыка, убили красные комиссары, пришедшие в Ургу из России и установившие после его смерти Народную Республику. Сыновья Ганжуура хотели понять, как теперь жить. И какие при Народной Республике будут цены на овец.
Атаман Канин не пошел на Ургу: ему были не интересны цены на скот и не хотелось встречать красных комиссаров. Оттого на девятое утро после смерти старого Ганжуура Семен Канин забрал выделенную ему пятую часть овечьего стада, шесть верблюдов, три большие юрты и ушел вверх по Онону – закончить паломничество Ганжуура к священной горе Бурхан-Халдун. Он считал это долгом перед стариком. Или перед самим собой. Хотя и не знал, что станет делать у священной горы.
Кроме овец и верблюдов он забрал с собой жену Бадамцэцэг, дочь Сугар и двенадцать низких монгольских лошадей.
Атаман Канин не любил лошадей. Семен Егорович прослужил в кавалерии всю полковую службу, но лошадей не полюбил. Он в них понимал и понимал их – стать, норов, повадки, только любви не было.
Так случается: понимаешь, но не любишь. Часто не любишь, оттого что понимаешь. Или понимаешь, оттого что не любишь. А бывает, и не любишь, и не понимаешь. Как у Канина с было с женой – маленькой шестипалой Бадамцэцэг.
Первый год Канин пытался ее узнать: что ценит, чего хочет. Чего не хочет. Бадамцэцэг не разговаривала, и Канин не мог разобрать – то ли немая, то ли просто молчит. Она все слышала и понимала, но не произносила слов. Сперва атаман думал, это от стеснения, но ночи в юрте убедили его в обратном: маленькая Бадамцэцэг – сколько лет ей было? двенадцать? тринадцать? – не знала застенчивости, как не знают ее животные и дети. Любовь была для нее удовольствием – как жирный бараний суп или почесывание старых комариных укусов. Она не связывала физическое наслаждение с чувствами; ее любовь была сведена к ощущениям. Бадамцэцэг набрасывалась на Канина каждую ночь, исследуя его тело губами, пальцами, языком, поражая атамана любопытством маленького зверька, обнюхивающего и лижущего добычу перед тем как съесть. Позже Канин понял: Бадамцэцэг просто не знала, что ей положено стесняться. Ей никто этого не сказал.
Опустошив Канина и убедившись, что, сколько бы она ни пыталась, объект стараний не крепнет, наливаясь кровью под ее короткими нетерпеливыми пальчиками и упругим языком, а вяло валится набок, Бадамцэцэг оставляла атамана в покое и начинала ласкать себя. Она не скрывала, что трогает себя между ног, теребит, стонет, вжимаясь в спальную лавку, застеленную толстыми стегаными расшитыми одеялами с въевшимися запахами пота, жирной еды и старой нестираной одежды.
Канин лежал в войлочной темноте юрты и стыдился. Первые месяцы он делал вид, что спит, но со временем привык к вибрирующему маленькому телу рядом и думал о ближайших делах: стрижке овец, процеживании шурбата – кефира из верблюжьего молока – и починке конских сбруй, пока жена любила себя. Прерывистое всхлипывание девочки, будто ей не хватает воздуха и оттого она плачет, поначалу заставляло атамана крепко сжимать ресницы, словно наступившаяпод веками ночь могла заглушить воспитанное в нем чувство стыда: ведь наслаждение есть грех и оттого должно совершаться втайне. Вскоре, однако, Канин привык и начал улавливать ритм приближающегося оргазма Бадамцэцэг как нарастающий гул поезда – ближе, громче, слышнее. Он научился различать смену фаз в дрожи ее тела, в сладости ее стонов, как умелый слушатель задолго различает начало крещендо в музыке. Канин представлял происходящее внутри жадно заглатывающей жарким ртом воздух его маленькой девочки-жены как музыкальную тему, набирающую все большую силу, заполняющую звуковое пространство, завладевающую, овладевающую миром вокруг.
Однажды, прислушиваясь к растущей и все учащающейся вибрации тела Бадамцэцэг, Канин вспомнил уроки музыки в шацкой гимназии, на которых глупый хохол Полтораненко объяснял, что крещендо обозначается в нотной грамоте знаком <; этот значок выглядел как расширяющийся раструб, в который всасывался мир. Диминуэндо, обратный процесс – постепенное уменьшение звука, обозначалось зеркальным крещендо знаком >.