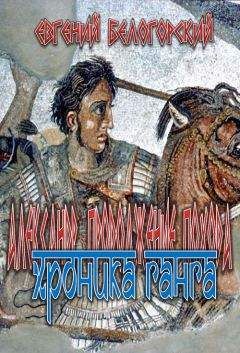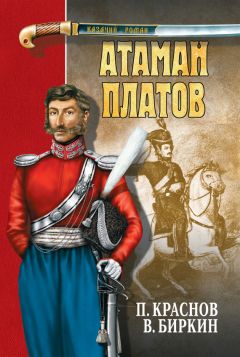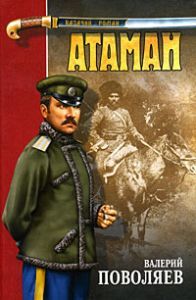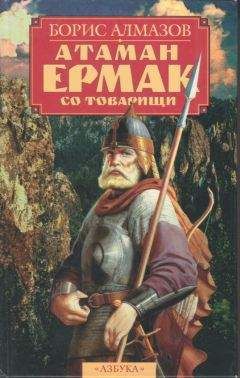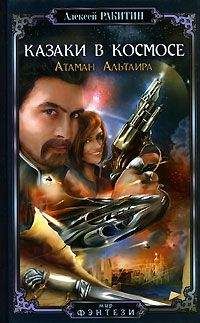Атаман (СИ) - Вязовский Алексей
Нас встретили молчаливые слуги в белых ливреях, приняли лошадей и проводили через прохладный мраморный вестибюль, уставленный огромными вазами с живыми орхидеями, в просторный зал. Интерьер поражал. Восточная роскошь — дорогие персидские ковры, шелковые ткани на стенах, резная деревянная мебель с инкрустацией слоновой костью — была искусно вписана в европейский антураж в виде высоченных 10-метровых колонн с греческими капителями. В глубине зала притаился небольшой семейный храм, большая лестница вела наверх в жилые комнаты.
— Вам нужно отдохнуть с дороги, — любезно предложили мои провожатые. — Мы приготовили комнату, где можно немного поспать. Там вы найдете уже налитую ванну.
Ванна! Что же вы раньше молчали! Боже, после джунглей с их смертельной экзотикой возвращение к цивилизации дорогого стоит. Еле удержался, чтобы не погнать вприпрыжку.
К ванне прилагались три девушки в столь прозрачных нарядах, что ничего не скрывали. Пухленькие, с множеством золотых украшений — чернобровые персики, да и только.
— Мы, сундари, сахиб, заботимся о мужчинах (1). Ни о чем не беспокойтесь. Мы сделаем вам приятно.
О, да! Они сделали и не один раз. О сне как-то позабылось.
* * *
Через несколько часов меня пригласили на поздний ужин. В обеденном зале стоял большой резной стол красного дерева, окруженный стульями с гнутыми спинками, а не низкие диваны. Бронзовые канделябры со множеством свечей заливали комнату ровным светом. На стенах висели не только миниатюры, но и большие масляные портреты в золоченых рамах. Но центральное место занимала аляповатая индийская акварель на бумаге, изображавшая, как я догадался, богиню Лакшми на бордовом цветке. Два слона поливали на нее воду из кувшина. Внизу шла рукописная надпись.
— Здесь написано: «Прекрасная дама, сидящая на лотосе. Она — богиня богатства».
Голос принадлежал хозяину дома Бабу Рамдулалу Дею — в этом не было сомнений. Банкир буквально вкатился в комнату, и казалось, что с его появлением даже воздух наполнился теплом и энергией. Это был мужчина лет пятидесяти, воплощение понятия «преуспевающий толстяк». Его фигура, облаченная в сияющий золотисто-желтый муслин, напоминала круглую бочку. Лицо — широкое, с мясистым носом, пухлыми щеками, тронутыми румянцем, и маленькими, невероятно живыми глазами-бусинками, которые мгновенно все замечали и все оценивали. На голове — не просто чалма, а произведение искусства из того же золотистого шелка, уложенное сложными, изящными складками. Каждый его палец украшало по массивному золотому перстню с изумрудами и рубинами. Он излучал не просто богатство, а его апогей, его абсолют. Жизнерадостность его была заразительной, но за ней, в глубине этих острых глаз, таился холодный расчет.
— Сахиб Черехов! — Его голос был густым, бархатистым, как хороший херес. Он протянул руки в гостеприимном жесте, браслеты на запястьях мягко звякнули. — Какая честь! Какая редкая удача принять в моем скромном жилище такого прославленного воина! Прошу, прошу, считайте себя как дома! Надеюсь, мои мальчики не доставили вам хлопот своим незваным визитом в лагерь? Юность, горячая кровь, им все интересно, даже военные лагеря!
Он рассмеялся, и его живот приятно колыхался. В его тоне не было и тени беспокойства за сыновей — только уверенность в силе своего золота и данных гарантий.
Меня провели к столу, уже накрытому во французском стиле. Фарфоровые тарелки с гербами, вероятно, английского производства, серебряные столовые приборы, хрустальные бокалы, блюда с закусками, вазы с фруктами. Еда, однако, была роскошной смесью кухонь мира: нежные паштеты, запеченные устрицы, томленые в сливках цыплята карри, ароматный пилав с бараниной и сухофруктами, горы свежих фруктов и сладостей. Никаких живых обезьянок или змей, как в фильме про Индиану Джонса — все цивилизованно, богато и, надо отдать должное, изысканно вкусно. Бабу явно знал толк в гастрономии и умел угодить европейскому вкусу. Он самолично накладывал мне лучшие куски, рассказывая забавные истории о поставщиках и поварах. Сыпал комплиментами русскому оружию и храбрости казаков, слухи о которых уже дошли до Калькутты. Он пил немного, в основном пригубливая бледно-золотистое вино, но ел с большим аппетитом, отдавая предпочтение вегетарианскому бирьяни — пряному рису с экзотическим овощем под названием картошка.
В разгар трапезы, между переменами, банкир вдруг заговорил о другом. Его тон стал чуть более задумчивым, хотя глаза по-прежнему искрились.
— Знаете, сахиб, — начал он, откладывая вилку, — жизнь богатого человека полна парадоксов. Мы накапливаем богатства, строим дворцы, едим изысканную пищу… но иногда самый маленький урок смирения приходит оттуда, откуда не ждешь. Однажды, во время великих пудж, жертвоприношений в честь грозной и милосердной Дурги, которой я, как и многие в Бенгалии, поклоняюсь… случилось нечто. В храме, среди грохота барабанов и запаха благовоний, к алтарю подвели молоденькую козочку. Она должна была стать жертвой. Но когда жрец занес нож… это маленькое, дрожащее существо вырвалось, подбежало ко мне и укрылось у моих ног. Она смотрела на меня такими глазами… полными безотчетного ужаса и мольбы. Я был потрясен. В этом взгляде была вся хрупкость жизни. Я велел оставить ее в живых. Она до сих пор обитает в моих садах, старая и ленивая. С той волнительной минуты, сахиб, я не приношу в жертву животных. Жизнь, даже самая малая, священна. Она научила меня состраданию.
История вроде бы была рассказана искренне, с чувством. И в то же время навела меня на мысль, она слишком уж к месту. Очень назидательно. «Какой хитрый толстяк, — подумал я, отхлебывая вина. — Ты хочешь сказать, что твоя совесть проснулась вместе с той козочкой? Что ты, накопивший горы золота на горе этих самых людей, спящих в грязи у твоего дворца, вдруг прозрел и возжелал мира? Что ж ты не накормил тысячи, когда они умирали от голода? Не верю!»
Вслух же я сказал, стараясь, чтобы в голосе звучала теплая участливость:
— Очень трогательная и поучительная история, Бабу. Она говорит о вашем добром сердце. Но, простите мою прямоту, я солдат. Я понимаю гарантии, заложников, прекрасный ужин, ласковых женщин, но не понимаю, зачем вы пригласили меня, вражеского офицера, в самый центр Калькутты? Чего вы хотите?
Бабу Рамдулал Дей улыбнулся. Его маленькие глазки сузились, превратившись в щелочки, но блеск в них не погас, а стал еще интенсивнее. Он откинулся на спинку стула, сложив руки на своем внушительном животе.
— Я хочу мира, сахиб Черехов. Вы правы, я купец. Я ценю стабильность. Война разрушает все, — он махнул рукой, будто отгонял назойливую муху. — Рынки рушатся, кредиты не возвращаются, имущество гибнет в огне. Форт-Уильям будет обороняться. Его стены крепки, пушки многочисленны. Ваш штурм, даже если он увенчается успехом, сахиб, превратит в руины не только крепость, но и часть города вокруг. Мой дом очень близко к стенам, — он с нежной грустью оглядел роскошный зал. — Одно неточное ядро, одна шальная ракета, — он вздохнул, — и годы труда, красота, накопленная поколениями погибнет. Кроме того, — его голос стал чуть тише, но тверже, — я чувствую ответственность. Не только за свою семью. В Калькутте много уважаемых людей — бабусов, членов моей гильдии. Хотя их энергией, их предприимчивостью создан этот город, англичане не пустят их в Форт-Уильям. Там место только для своих. Где им укрыться во время боя? На улицах? Среди пожаров и мародеров?
Он наклонился вперед, его золотая чалма замерла над столом.
— Мой план прост, сахиб. Я предлагаю вам сделку. Я спрячу всех этих почтенных людей и их семьи здесь, в моем доме. Он большой, с крепкими стенами, с глубокими подвалами. Мы будем тихо сидеть, молиться и ждать конца бури. А вы выделите небольшой отряд ваших храбрых воинов. Всего несколько десятков человек, может полсотни. Они разместятся здесь же, в моем доме и во флигелях. Их задача — охранять нас. Гарантировать, что в этот дом не войдут ни мародеры, ни шальная пуля, ни ваши собственные солдаты, разгоряченные боем и возможностью поживы. Они будут знать — этот дом под защитой их же командира. У вас, знаете ли, репутация — у меня очень хорошая сеть информаторов. За эту защиту, за гарантию безопасности для нас и сохранности моего имущества я заплачу.