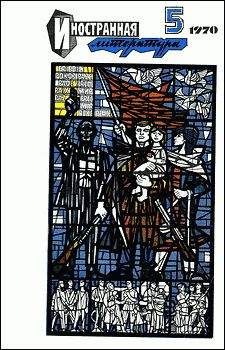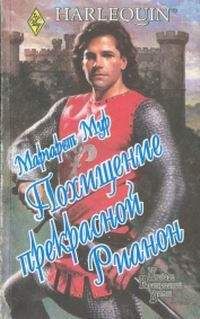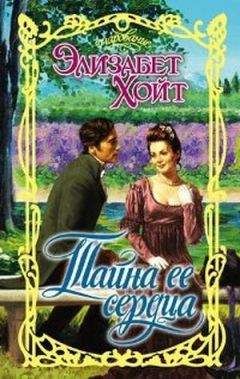Йен Уотсон - Альтернативная история
Несколько чудесных секунд мы с любовью смотрели друг на друга. Потом я сказал:
— А теперь расскажи мне поподробнее о своих достижениях в Новом Свете. Да, мы говорили о них не раз, но довольно коротко, и при этом всегда был кто-то из твоих друзей или твоя очаровательная жена. Теперь мне хотелось бы спокойного и неторопливого рассказа. Кстати, соответствует ли научный аппарат — доступ к специальной литературе и тому подобное — в муниципальном университете Нью-Йорка твоим потребностям, после того как тебе довелось поработать в Баден-Баденском университете и других центрах высшего образования в Германской Федерации?
— В каком-то смысле, конечно, они тут недотягивают, — признал он. — Но для работы именно в моей области хватает. — Тут он снова опустил глаза и едва не покраснел. — Однако, папа, ты переоцениваешь мои скромные успехи. Они не идут ни в какое сравнение со вкладом в международные связи, сделанным тобой за последние две недели.
— Это моя обычная работа, — скромно ответил я, тем не менее не удержавшись, чтобы еще раз не дотронуться до левого кармана, в котором лежали подписанные документы. — Но довольно обмениваться любезностями. Расскажи мне о своих «скромных успехах», как ты это называешь.
Наши взгляды встретились.
— Ну что ж, папа. — Он вдруг заговорил сухо и по-деловому. — Все, что я делал в последние два года, я делал, в полной мере осознавая всю зыбкость благополучия, которым все мы сейчас наслаждаемся. Если бы кое-какие вопросы в ключевые моменты истории последнего столетия решились иначе, если бы был выбран другой курс, то мир сейчас оказался бы ввергнутым в беды и войны, ужаснее которых вообразить себе невозможно. Эта леденящая душу картина все четче вырисовывается передо мной по мере того, как я глубже проникаю в суть вопроса.
Я был сильно заинтригован. Тут нам подали бренди в небольших округлых бокалах. Невольная заминка в разговоре только усилила мое волнение.
— Что ж, давай выпьем за твое глубокое проникновение в суть, — предложил я. — Прозит!
Ожог и приятное тепло, разлившееся по всему телу, пришпорили мой интерес.
— Думаю, я понимаю, о чем ты… — ответил я сыну.
Поставив недопитый бокал на стол, я указал на нечто за его спиной. Он оглянулся. Я указывал на четыре фигуры у входа в ресторан «Krahenest».
— Например, — сказал я, — если бы Томас Эдисон и Мария Склодовская не поженились и особенно если бы у них не родился сверхгениальный сын, познания Эдисона в области электричества и Склодовской в радиоактивных веществах не были бы объединены на благо науке. Не появился бы знаменитый аккумулятор Эдисона, основа всего известного нам наземного и воздушного транспорта. На суперсовременные электрические грузовики, о которых теперь пишут в филадельфийской «Сатэдей ивнинг пост», смотрели бы просто как на дорогостоящую причуду. И гелий так и не начали бы производить в промышленных количествах, а значит, продолжали бы расходовать и без того истощившиеся подземные запасы.
Взгляд моего сына вспыхнул азартом настоящего ученого.
— Папа, — воскликнул он, — ты и сам гений! Ты удивительно метко попал в одну из ключевых точек. Я сейчас работаю над большой статьей на эту тему. Известно ли тебе, что в тысяча восемьсот девяносто четвертом году Мария Склодовская имела личные отношения со своим коллегой Пьером Кюри и, следовательно, вполне могла бы стать мадам Кюри или, скажем, мадам Беккерель, потому что и он тогда работал с ними, — если бы в Париж в декабре тысяча восемьсот девяносто четвертого года не приехал блистательный Эдисон, не вскружил ей голову и не увез в Новый Свет к новым свершениям? И ты только представь, папа, — его глаза взволнованно блестели, — что было бы, если бы их сын не придумал свой знаменитый аккумулятор, самое значительное научное изобретение за всю историю промышленности. Ведь тот же Генри Форд тогда вполне мог бы наладить производство автомобилей, приводимых в движение паром, или природным газом, или даже бензином, вместо того чтобы выпускать электрические автомобили, которые сегодня стали настоящим благом для человечества. Представь вместо наших бесшумно скользящих машин чудовища, изрыгающие ядовитый дым и загрязняющие все вокруг.
Машины, приводимые в движение бензином! Это же опасно — в смысле возгорания. Идея, какой бы фантастической она ни была, заставила меня содрогнуться от ужаса. Как раз в этот момент я заметил, что мой еврей в черном сидит всего в нескольких столиках от нас. Честно говоря, я удивился, увидев его в «Krahenest». Странно, почему я не заметил его появления? Возможно, он пришел сразу после меня, в те самые несколько минут, когда я смотрел только на своего сына. Его присутствие, должен признаться, всего на миг, но испортило мне настроение. «Что ж, пусть поест хорошей немецкой еды и выпьет доброго немецкого вина», — великодушно подумал я. Быть может, когда его желудок наполнится, на изможденном еврейском лице заиграет добрая немецкая улыбка. Я привычно дотронулся до своих усиков ногтем большого пальца и отбросил со лба черную прядь волос. Тем временем сын продолжал:
— Так вот, папа, если бы электрический транспорт не развился и отношения между Германией и Соединенными Штатами в последнее десятилетие оказались бы хуже, мы бы не получали из Техаса гелий для наших цеппелинов, а мы в нем остро нуждались в тот период, когда еще не было налажено получение гелия искусственным путем. Мои сотрудники в Вашингтоне нашли сведения, что в американских военных кругах одно время существовало мощное движение, направленное против продажи гелия каким бы то ни было странам, и прежде всего Германии. Только влияние Эдисона, Форда и других крупных американских деятелей предотвратило введение этого глупейшего запрета. Окажись он принят, Германии пришлось бы заправлять пассажирские дирижабли не гелием, а водородом. Вот еще один ключевой момент.
— Заправленный водородом цеппелин — какая глупость! Да это же настоящая летающая бомба, способная взорваться от малейшей искры! — воскликнул я.
— Это вовсе не глупость, папа, — покачал головой мой сын. — Прости, что вторгаюсь в твою профессиональную область, но для некоторых периодов быстрого роста индустрии характерен императив: если безопасный путь закрыт, люди идут опасным путем. Ты не можешь не признать, папа, что авиация поначалу была чрезвычайно рискованным предприятием. В тысяча девятьсот Двадцатые годы случались страшные аварии: дирижабль «Рим», например, или «Шенандоа», разломившийся пополам, «Акрон», «Мэкон», британские R-38, распавшийся прямо в воздухе, и R-101, французский «Дик-смёйде», похороненный на дне Средиземного моря, принадлежавшая Муссолини «Италия», потерпевшая крушение в неудачной попытке достичь Северного полюса, русский «Максим Горький», в который врезался самолет. По меньшей мере три с половиной сотни авиаторов погибли только в этих девяти катастрофах. Если бы за ними последовали взрывы двух-трех заправленных водородом цеппелинов, мировая промышленность вообще могла бы оставить всякие попытки производства дирижаблей и переключиться, например, на винтовые самолеты тяжелее воздуха.
Летающие чудовища, которые каждую секунду могут упасть, если вдруг откажет двигатель, вместо старых добрых непотопляемых цеппелинов? Невозможно! И я покачал головой, однако, надо признать, уже далеко не с той убежденностью, с какой хотелось бы. А вот доводы моего сына звучали как раз очень убедительно. Кроме того, он прекрасно владел материалом и, так сказать, держал руку на пульсе. Упомянутые им девять авиакатастроф действительно имели место, о чем мне было хорошо известно, и, действительно, из-за них пассажирская авиация могла бы пойти по пути тяжелых самолетов, если бы не гелий, вернее, если бы не германский гений и если бы не волшебный аккумулятор Томаса Склодовского-Эдисона.
Справиться с неуютными мыслями мне помогло искреннее восхищение разносторонними познаниями моего сына. Этот мальчик — настоящее чудо. Весь в отца и даже, что там скрывать, превзошел его.
— А теперь, Дольфи, — продолжал он, назвав меня домашним именем (я не возражал), — я хотел бы перейти к совсем другой теме. Или, вернее, к другому примеру, иллюстрирующему мою гипотезу о ключевых моментах истории.
Я молча кивнул. Мой рот был занят замечательной Sauerbraten и чудесными маленькими немецкими клецками, а трепещущие ноздри вдыхали ни с чем не сравнимый кисло-сладкий запах краснокочанной капусты. Я так увлекся выкладками сына, что даже не заметил, как нам принесли еду.
Проглотив кусок, запив его глотком доброго «Зинфанделя», я сказал:
— Продолжай, пожалуйста.
— Я имею в виду последствия Гражданской войны в Америке, отец, — произнес он, к моему большому удивлению. — Знаешь ли ты, что в первое десятилетие после того кровавого конфликта существовала реальная опасность, что дело борьбы за свободу и права негров — за что, собственно, и воевали — будет совершенно загублено? Все старания Авраама Линкольна, Тадеуса Стивенса, Чарлза Самера, Бюро свободных людей, Союзной лиги оказались бы сведены к нулю. Куклуксклановцы не подверглись бы суровым наказаниям, а, наоборот, расцвели пышным цветом. Да, папа, мои изыскания убедили меня в том, что все это могло бы произойти и кончилось бы новым закабалением чернокожих, нескончаемыми войнами или, по крайней мере, затягиванием периода Реконструкции на многие десятилетия, учитывая пагубную черту американского характера — способность легко переходить от искренней и простой веры в свободу к махровому лицемерию. Я опубликовал большую статью об этом в «Вестнике исследований Гражданской войны».