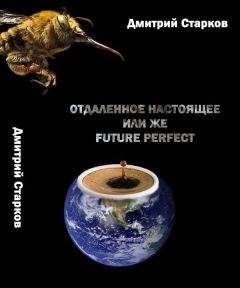Дмитрий Володихин - Доброволец
Китти не касалась города Севастополя, она не касалась тысячу девятьсот двадцатого года. Ни слова. Я с благодарностью принял эту игру. На свете есть другая жизнь, она не пахнет голодом, страхом и ружейной смазкой. Китти требовалось хорошенько припомнить ее, да и мне тоже.
Лишь один раз, один-единственный, ледяное дыхание войны добралось до наших висков. Она со взхохом спросила:
– Отчего так выходит: одно наше дествие, разумное и правильное, а на него в ответ на той стороне, у большевиков, – десяток действий. И половина из них – невпопад. Но остального хватает, чтобы сковать любое наше воление…
О, я мог бы полночи рассуждать на заданную тему. И вышло бы, по всей вероятности, неглупо, логично, даже тонко, но совершенно ненужно. Мы оба пришли бы, скорее всего, в дурное настроение. Здесь, сейчас, между нами войны нет. Пусть она не суется со своей мерзкой правдой, нам не до нее!
Поэтому я ответил так просто, как только мог:
– Мы терпим поражение? Не удивительно. А удивительно совсем другое: отчего белые смогли так много сделать в таких условиях… Расскажите мне, кем вы были до войны?
– Я? Сейчас, когда все смешалось, когда в пепле не найти крупинок золота, наверное, это уже не имеет значения… Впрочем… Извольте: я дворянка. Из рода, которому при Федоре Алексеевиче, отменившем местничество, не пришлось доказывать знатность и древность. Мой отец одно время служил товарищем министра финансов… в детстве я отказа не знала ни в чем… а потом… потом его пырнули штыком на большой дороге какие-то зеленые… прости Господи им такое злодейство…
Губы у Китти задрожали, и я уже раскрыл рот, чтобы прервать ее рассказ, но она сама нетерпеливым жестом остановила меня.
– Нет уж! теперь мне хочется, чтобы кто-нибдь это слышал! Хотя бы один человек! Моя мать, урожденная Евангелина Штосс, была лютеранкой. Но влюбившись в отца, она перешла в праволавие и воспитала меня так, чтобы я всегда чувствовала: Христос рядом, вон там, на соседнем стуле, Он смотрит на меня, Он слушает меня… Мамы не стало год назад… от тифа… и я… нет, не подуймайте… я не пала духом… нет, я пыталась быть достойной… но как же я устала! Я… пыталась говорить с простыми людьми… я пыталась возвышать их дух… но… вот ты ему о великой радости: в Москве появился патриарх Тихон! Это после двух столетий запустения на патриаршей кафедре! а он тебе: Тихон-Тихон, с того света спихан… Да и все. Как в черную пропасть! До чего же груб наш народ! суеверы, пьяницы… Я… когда скиталась одна… у меня остались деньги… целый месяц… пока не добралась сюда… таких бед навидалась, о-о-о-о! Однажды… брела пятнадцать верст пешком, умучилась, представляете?
Я кивнул. Пока меня не превратили в пехотинца, пятнадцать верст и мне представлялись большим расстоянием.
– …набрела на хутор под Липецком… Хозяин говорит: «Отчего не приютить? Вона хлев, над хлевом сушило, тама и место есь… тока не сичас полезай, а чуть обожди». Я ему: «Чего ждать?» А он мне: «Дак хозяйка корову в хлеву доит, никого близко не подпущаеть. Не серчай, пожди». Я ему: «Да я ведь близко к ним не подойду, мне наверх…» А он мне: «Не в обычай такое дело. Хозяйка никого, пока доит, близко не терпит, иначе скотину сглазють». Я: «Кто сглазит?» Он: «Да хоть ты. Бес тебя знает». Я ему про то, что верить надо в Христа, а не в побасенки темных людей, а он меня со двора гонит, мол, теперича точно ему понятно: глаз у меня дурной… Ну как с этой теменью быть! Мгла, мгла, сплошная мгла! Мне поговорить не с кем. Слава Богу, вас нашла… Тебя нашла, Миша. Ты не понимаешь, какой в этом подарок небес!
Мне страстно хотелось увести разговор от выстуженной ледяными ветрами помойки военных обстоятельств.
– Китти, вы… ты… Зимняя канавка, Китти. Летний сад. Обводной канал, – я принялся городить о Питере любую чушь, приходившую в голову, лишь бы она вынырнула из слепой мути недавних воспоминаний, – Стрелка Васильевского острова. Алексеевский равелин. Кронверк…
– «Как броненосец в доке…» – неожиданно откликнулась она, – Только я в броненосцах никогда не видела ничего чудовищного. Порфира – да. Но не власяница. Ты ведь москвич, Миша? Не понять тебе никогда, что за великолепие, когда стиль ампир разлит в воздухе, как весна в щебетании птиц. А вот послушай:
Твой остов прям, твой облик жесток,
Шершавопыльный – сер гранит,
И каждый зыбкий перекресток
Тупым предательством дрожит.
Твое холодное кипенье
Страшней бездвижности пустынь
Твое дыханье – смерть и тленье,
А воды – горькая полынь.
Как уголь дни, – а ночи белы,
Из скверов тянет крупной… крупной…
Она сбилась.
– Ой, что-то не то, как-то там… а!
Из скверов тянет трупной мглой.
И свод небесный, остеклелый,
Пронзен заречною иглой,
Бывает: водный ход обратен… обратен… обратен…
Хмуря бровя, Китти пыталась припомнить ужасающую мертветчину госпожи Гиппиус, однако мертветчина то и дело застревала в ее здоровой натуре:
…обратен… обратен… взвихрясь… вздыхрясь…
Нестерпимо. Сейчас будет про вкипание ржавых пятен, и это – нестерпимо. Я вмешиваюсь в симфонию скрипов каменного костяка почти пародийными строками:
Мне снятся жуткие провалы
Зажатых камнями дворов,
И черно-дымные каналы,
И дымы низких облаков.
Молчат широкие ступени,
Молчат угрюмые дворцы
Лишь всхлипывает дождь осенний,
Слезясь на скользкие торцы…
– Ты издеваешься надо мной? – деловито осведомляется моя собеседница. – И, раз уж на то пошло, кто это?
– Некая Аллегро.
– Отчего некая?
– По-моему, дамская рука чувствуется очень хорошо.
– А по-моему, вовсе не чувствуется! – легонько отомстила она мне.
– И, раз уж на то пошло, да, действительно, издеваюсь. Но легко и безобидно.
Она рассмеялась.
– За какие прегрешения?
– Неужели это был твой Питер? Трупная мгла… Не поверю. Просто у тебя дурное настроение.
– Последнее время дурное настроение гостит у меня по всякий день, задерживаясь от файф-о-клок’а до рассвета…
– Но ведь так было не всегда.
– Полно! Я отвыкла от иных ощущений. А впрочем, лет семь назад я любила совсем другое.
Она замолчала, вслушиваясь в собственную память. Прошла минута, другая…
– Китти, позволь… вот то, что мне ближе:
Благословенные морозы
Крещенские, настали вы.
На окнах – ледяные розы
И крепче стали – лед Невы.
Нежданно-нагаданно Китти встрепенулась и вредным голосом продекламировала:
Каждый день чрез мост Аничков,
Поперек реки Фонтанки,
Шагом медленным проходит
Дева, служащая в банке.
Меня разбирал смех, следующую строфу я прочитал не без труда:
Свистят полозья… Синий голубь
Взлетает, чтобы снова сесть,
И светится на солнце прорубь,
Как полированная жесть.
Она добавила в тон ехидства, хотя, казалось бы, там и без того хватало претыкателных специй:
Каждый день на том же месте
На углу у лавки книжной
Чей-то взор она встречает
Взор горящий и недвижный.
Нет, я не буду смеяться! Не стану. Не поддамся. Ей меня не сбить. Нет. Ни за какие коврижки…
– Не надо хихикать! Гораздо уместнее дочитать это торжественно-прекрасное громокипенье.
– Я вовсе не хихикал!
– Разумеется. Никаких сомнений.
– Я точно не хихикал!
– Разве я спорю? Ни секунды.
– Хорошо же…
Пушинки легкие, не тая,
Мелькают в ясной вышине, —
Какая бодрость золотая
И жизнь и счастие во мне!
В глазах Китти пламенеют две лампады невинности.
Деве томно, деве странно,
Деве сладостно сугубо:
Снится ей его фигура
И гороховая шуба.
– Теперь ты издеваешься надо мной?
– Да! – с простодушным восторгом ответствовала она. – Кстати, дамскую ручку почувствовал?[4]
Только я захотел ответить, как она накрыла мою ладонь своей, поднялась из-за стола и повела к дивану. В течение пяти последних минут я собирался сделать именно это, но робел. Она оказалась решительнее меня… на четыре шага. До дивана, выполненного в пантагрюэлистичном архитектурном стиле, было семь шагов. Четыре Китти проделала, крепко сжимая мою руку и глядя мне в глаза. Потом хватка ее ослабла, а взгляд убежал куда-то в сторону. Она остановилась, но я-то двигался по инерции, поэтому несколько мгновений спустя оба мы очутились на диване в необычной и неудобной позе: наши колени и ладони соприкасались, но тела приняли сидячее положение на максимальном расстоянии друг от друга.
Китти гладила мои пальцы, обводя взглядом комнату, но лишь только рапира взгляда должна была пересечь контуры моей фигуры, как движение его изменяло скорость и направление… Что я чувствовал? Желание? Да, наверное. Но не содержало оно остроты и нестерпимости, его словно укутали в газовую фату; будто капнули акварели на лист и размыли пятно по краям водой. Я не ощущал усталости, опьянения, князь снов не касался меня убаюкивающим жезлом. Просто душа моя истончилась в эту зиму, плотская близость пугала ее, как молоток наводит испуг на хрусталь.
![Пол Андерсон - Патруль времени [сборник]](/uploads/posts/books/116954/116954.jpg)