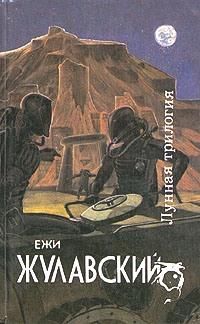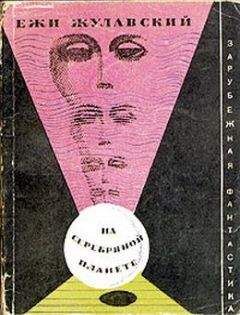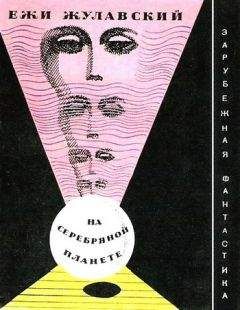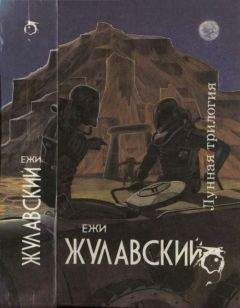Ежи Жулавский - На серебряной планете
Педро ревновал. Он и раньше недружелюбно относился к ребенку, а теперь посматривал на Тома порою таким взглядом, что я, зная его характер, опасался, как бы он не причинил малышу зла. Да и ко мне он ревновал, хоть я всячески избегал ситуаций, которые могли бы дать ему повод для этого. С Мартой я вначале никогда не встречался наедине и даже в его присутствии мало с ней разговаривал. И все-таки я каждый раз, когда хоть словечко говорил Марте, ощущал на себе взгляд Педро, хищный и тревожный.
Тяжкой была жизнь для меня и для Марты, но Педро был едва ли не самым несчастным из нас троих. Марта по крайней мере находила утеху в ребенке, а я - в том гордом, пусть и бесплодном удовлетворении, которое дает добровольно принесенная жертва, тогда как он, Педро, терзаемый ревностью рядом с желанной, но холодной к нему женщиной, не имел опоры ни в чем. Я невольно отстранился от него, а Марта, правда, была во всем покорна и послушна его желаниям, но на каждом шагу давала Педро понять, что считает его всего лишь орудием, с помощью которого она хочет обеспечить своему сыну благо общения с другими людьми на Луне. Никогда я не видел, чтобы она обратилась к Педро с мало-мальски теплыми, сердечными словами; когда он покрывал ее руки или лицо поцелуями, она не противилась, но сидела неподвижно, застывшая и равнодушная, только в глазах ее сквозило иногда выражение усталости и… отвращения.
А ведь он по-своему любил ее, этот человек, все средства пускал в ход, чтобы добиться ее взаимности - словно этого можно вообще чем-либо добиться! Бывали минуты, когда он угрожал Марте и старался показать свое превосходство, но она тогда смотрела на него равнодушно и спокойно, не пугаясь, однако, и не желая протестовать. Если Педро что-то приказывал, она все выполняла безропотно, но и безрадостно, - совершенно так же, как и тогда, когда он о чем-то просил. Это доводило его до отчаяния. Я видел, что временами он пытался пробудить в Марте даже протест и ненависть - лишь бы вырвать ее из этого страшного равнодушия. Прибегал он уж и к самому крайнему средству: преследовал Тома. При мне он не осмеливался тронуть ребенка - я сказал ему однажды, что, если он причинит мальчишке хоть малейшее зло, я пущу ему пулю в лоб; а он знал, что с того памятного полдня я всегда ношу с собой револьвер. Но в мое отсутствие он бил Тома. Я узнал об этом лишь много позже и случайно… Марта молча, хладнокровно пригрозила ему кинжалом, который я поднял в тот полдень у входа в пещеру и отдал ей.
А иной раз, впадая из одной крайности в другую, Педро бросался к ногам Марты и рыдал, и умолял ее сжалиться.
Однажды я незаметно присутствовал при такой сцене. Я возвращался из одинокого похода к довольно отдаленным источникам нефти и, приближаясь к дому, услышал взволнованную речь, а затем рыдания Педро. Марта сидела в садике, разбитом на склоне, откуда открывался немыслимо великолепный вид на горы и море; у ее ног лежал Педро. Сложенными руками он опирался о ее колени, его лицо, взгляд, голос молили.
– Марта, - говорил он, - Марта, смилуйся ты надо мной! Разве ты не видишь, что со мной делается! Ведь это ужасно… Я схожу с ума по тебе, я теряю рассудок, а ты… ты…
Какое-то судорожное неприятное всхлипывание прервало его речь.
Марта даже не шевельнулась.
– Тебе что-нибудь нужно от меня, Педро? - спросила она немного погодя.
– Твоя любовь мне нужна!
– Ты мой муж…
– Люби меня!
– Хорошо. Я люблю тебя.
Она произносила все это медленно, спокойно и так бесконечно равнодушно, что у меня мороз побежал по коже.
Педро вскочил.
– Женщина! Не дразни меня! - прохрипел он.
– Хорошо. Я не буду тебя дразнить.
Педро схватил ее за плечи, лицо его было искажено бессильной яростью. Я невольно сжал револьвер; сердце у меня бурно колотилось, но я знал, что моя рука не дрогнет.
– Ты хочешь бить меня, Педро? - произнесла она все так же спокойно, будто спрашивала: «Ты хочешь пить?»
– Да, я буду тебя избивать, колотить, мучить, пока… пока ты…
– Хорошо, бей меня, Педро…
Он застонал и пошатнулся, как пьяный.
Я подошел ближе, чтобы своим появлением прервать эту невыносимую сцену.
Видеть вечную гнетущую печаль Марты и ужасную внутреннюю борьбу Педро было мне невыразимо тягостно, а они тоже отчасти избегали меня, хоть и по разным причинам, - и все сложилось так, что большую часть долгих лунных дней я проводил в полнейшем одиночестве. Постепенно я привык к этому. Впрочем, теперь я уже мог мечтами о будущем заполнять пустоту и тоску, на которые сам себя добровольно обрек. Правда, я, бывало, иначе представлял себе супружество «одного из нас» с Мартой: я мечтал о какой-то безоблачной, тихой, пускай слегка овеянной грустью идиллии, о новых сердечных узах, соединяющих наш тесный круг, о долгих беседах вполголоса, посвященных заботам о счастье и удобствах тех, кто придет после нас; но хотя действительность и разрушила до основания все эти прекрасные мечты, она все же дала мне одно неоценимое сокровище: надежду на новое поколение. Я уже любил это будущее поколение, этих не моих детей, раньше, чем они появились на свет. В своих долгих одиноких блужданиях я непрестанно думал о них. Для них я накапливал запасы, изучал окрестности, записывал свои наблюдения; для них очистил от пыли и привел в порядок захваченную с Земли библиотечку; для них делал кирпичи и обжигал известь, чтобы построить каменный дом и небольшую астрономическую обсерваторию; для них выплавлял из руды железо или ковал из серебра, в изобилии тут имеющегося, разную утварь, делал стекло, бумагу и другие материалы, необходимые для цивилизованного человека. Я так несказанно радовался этим детям, которым еще лишь предстояло родиться! Мне казалось, что с их появлением все обязательно изменится к лучшему, что их улыбки и лепет развеют наконец ту удушливую атмосферу, которая царила среди нас.
Я ждал не слишком долго. И года не прошло, как Марта произвела на свет близнецов - двух девочек.
Они родились ночью. Когда я услышал из другой комнаты, где сидел с Томом, их первый слабый плач, я вскочил, охваченный безумной радостью; но в тот же миг мое сердце сжалось от такой ужасной, неутолимой боли, что я начал кусать пальцы, чтобы подавить рвущиеся наружу рыдания, и слезы полились у меня из глаз.
Том удивленно смотрел на меня, прислушиваясь в то же время к звукам, доносившимся из другой комнаты.
– Дядя, - произнес он наконец (так он меня всегда называл), - дядя, кто это там так плачет, мама, что ли?
– Нет, детка, это не мама плачет, это… это такой маленький ребеночек… как ты, но еще меньше.
Том сделал серьезную мину и начал раздумывать.
– А откуда этот ребенок? А зачем этот ребенок? - спросил он снова.
Я не знал, что ему ответить. Он тем временем зорко приглядывался ко мне.
– Дядя, а ты почему плачешь? - спросил он вдруг. И правда, почему я плакал?
– Потому что я дурак! - резко сказал я, отвечая скорее на собственные мысли, чем на его вопрос.
Ребенок покачал головой с невероятной серьезностью.
– А вот и неправда! Я знаю, что ты не дурак. Мама так не говорила. Мама сказала, что ты добрый, очень добрый, только… только…
– Только - что? Как тебе мама сказала?
– Я забыл…
В эту минуту открылась дверь и на пороге появился Педро. Он был бледен и явно растроган. Он улыбнулся мне горько, но искренне - впервые за весь этот год - и сказал:
– Две дочки…
Потом добавил:
– Ян, прошу тебя, Марта хочет, чтобы ты привел к ней Тома.
Я вошел в комнату, где лежала Марта. Увидев сына, она сразу протянула к нему руки.
– Том! Подойди же, посмотри! У тебя две сестрички! Две сразу! Это для тебя! Ты мне простишь, Том, правда? Простишь? Ведь это я для тебя, только для тебя, мой самый дорогой, мой единственный, любимый сыночек! - прерывающимся голосом говорила она, прижимая ребенка к груди.
Том задумался.
– Мама, а что я буду делать с этими сестричками?
– Что тебе захочется, мой маленький! Ты будешь их бить, любить, царапать, ласкать - все, что тебе захочется! А они будут тебя слушаться и работать вместо тебя, когда подрастут, понимаешь?
– Марта! Что ты говоришь! - вскричал Педро. - Марта! Это мои дети!
Она холодно посмотрела на него:
– Я знаю, Педро: это твои дети…
Педро рванулся, словно хотел на нее броситься, но превозмог себя и, шагнув к постели, сказал со всей кротостью, на какую был способен:
– Это наши дети, Марта. Неужели у тебя нет для меня уже ни единого слова? Ничего?…
– Есть. Я благодарю тебя.
И она снова принялась гладить и страстно целовать светлую головку сына:
– Мой Том, мой самый дорогой, любимый, золотой сыночек…
Педро бросился из комнаты, как безумный, а мне стало трудно дышать. Что-то чудовищное было в такой безраздельной материнской любви.
Рождение двух девочек, Лили и Розы, мало изменило нашу жизнь - вопреки ожиданиям. Взаимоотношения Педро и Марты были все такими же. Марте я с самого начала сочувствовал, но теперь стал ощущать глубокую жалость и к судьбе этого человека. Педро помрачнел, поник, в каждом его слове, в каждом движении сказывалась громадная, смертельная усталость и подавленность. Он был моложе меня на несколько лет, однако сгорбился и поседел, запавшие глаза его горели каким-то нездоровым огнем. Никогда бы я не подумал, что год жизни способен так разрушить неутомимого человека, который отлично перенес, лучше, чем все мы, неслыханные трудности путешествия через пустыню. Конечно, причиной тому была Марта, но я не мог ее винить… Она любила того, первого, который умер; кроме Томаса и его сына, никого уже не могло вместить ее сердце - вот в чем была вся беда.