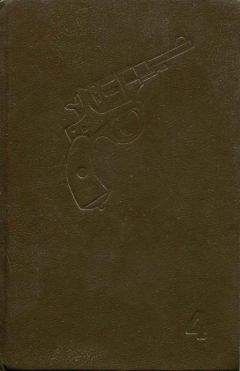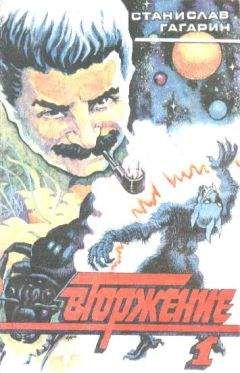Станислав Гагарин - Страшный суд
— Мы знаем, что вам хотелось искупаться в Волге, — усмехнулся фюрер, — а свекра дочери, Александра Юсова, просить об этом не рискнули: он ворчит по поводу каждого километра, когда везет вас на «Москвиче».
— Да уж, — неопределенно отозвался и пожал плечами Станислав Гагарин.
— Потому и затеяли вашу доставку в это российское место. Время у нас еще есть. Идемте купаться!
«Увижу ли я сегодня Иосифа Виссарионовича?» — думал писатель, вслед за Гитлером спускаясь к волжскому берегу.
Когда три года назад летел в Буэнос-Айрес, то в 10 часов 03 минуты Московского времени 14 мая 1990 года записал в дневнике:
Время для записей думаю так и оставить московское. Буду каждый раз переводить… А фули! Весь мир должен жить по московскому времени. Кстати, в той полудреме, в которой пребывал полетную ночь, пригрезилась идея создания имперской партии. Это, конечно, курьез, но нечто в этом роде нам необходимо. Нельзя же просто так, за понюх табаку, разрушить самое крупное в мире государство. Идею во «Вторжение»!
Но этой идеи в романе «Вторжение» нет. Завершив книгу, я полагал, что дела наши союзные образуются, кризис будет преодолен, и перестроившись, мы заживем как Великая Держава. Увы…
Я натолкнулся на эту запись в блокноте, когда перелистывал его в один из саратовских дней, и был ошеломлен, ибо не прошло и года после нее, как мне пришлось уже по другому поводу воскресить идею Имперской партии.
Про запись в южно-американском блокноте я и думать забыл, потому и не включил аргентинские и уругвайские записи в последнюю часть «Вторжения», которое я тогда вовсю, и в Южной Америке тоже, писал. А за истекшие три с лишним года я и программу партии сочинил, и устав придумал, «Слово и Дело Русской державной партии» в предисловие к беседам с Кагановичем вставил, а когда Зодчие Мира захотели через меня поведать человечеству о философии порядка, то конспективно изложив суть учения, я спереди присобачил «Слово и Дело», выдав эту комбинацию за собственную статью «Наши задачи».
Валентину Чикину в «Советскую Россию» уже статью перед отъездом оттартал, 22 июля это было, в четверг. Может быть, уже и напечатали.
Значит, подумал я утром 28 июля, поджидая в саду обещанных с вечера гостей, не случайно осенило меня три года назад над Атлантическим океаном.
Правда, слово имперская я заменил на державная, так это один хрен, слово «империя» переводится с латинского на русский как «держава», что куда симпатичнее звучит и ломехузов не задирает…
Обо всем этом хотел я поговорить с вождем, но пока явился на свидание только один, и тот иностранец, Адольф Алоисович Гитлер. И не в саду мы встретились, а на Волге…
…Открывший вчера вечером связь со мною товарищ Сталин не удосужился сообщить, когда ждать гостей, но я полагал, что ему известно: визит необходимо завершить до обеда. К четырнадцати часам славная Лидия Кондратьевна, мать Николая Юсова, привезет мне обед, а с нею будут старший Юсов, мой, и их, разумеется, внук Лёва, возможно и другая внучка Юсовых — девятилетняя Таня.
Проснулся я в пять утра, уже привык подниматься на рассвете, для физической разминки тяпал сорняки, до восьми утра писал роман «Страшный Суд» и едва уселся под яблоней, чтобы позавтракать вкусной хреновиной из разных овощей, которую вчера уже пробовал у Лидии дома, вдруг как будто шкурой ощутил, как в десяти метрах от меня, над огромной песочницей, сооруженной хозяином в центре сада, опускается нечто.
Выражение «почувствовать шкурой» не совсем точное. Шкурой можно чувствовать лишь тактильно, когда до тебя дотрагивается некто. Но употреблять его в том смысле, что сработало шестое чувство.
Вот и сейчас я не видел опускающегося предмета, как выяснилось потом, предмет и тени собственной не имел, и ни малейшего звука не случилось, а возникновение тела мною ощущалось до того, как оно сформировалось на куче желтого и мелкого песка, подпертого хозяйственным Юсовым железными щитами.
Летательный аппарат подобного типа мне был уже знаком. Именно на таком прибыл товарищ Сталин во второй раз, опустившись прямо на тропу-дорожку, идущую через лес от Власихи до Одинцова.
Тому, кто не читал еще роман «Вторжение», поясняю, что сооружение имело вид телефонной будки, но цилиндрической формы и раза в полтора-два больше. Стекла вот были непрозрачными — и все.
Телефонная будка аккуратно разместилась в центре песчаной кучи, распахнулась овальная дверца двухметровой высоты, и из загадочного цилиндра… никто не вышел.
Я понял, что за мною прислали карету без извозчика, крикнул будке-стакану, чтоб подождала, мне надо собраться, сидел под яблоней почти что голым, и кейс прихватить, покажу-похвастаюсь вождю новыми интервью и статьями обо мне, забежал в сарайчик-кабинет, черкнул записку — а вдруг опоздаю?! — легким прыжком поднялся на песчаную кучу, не без внутреннего сопротивления — хрен его знает, сей космический транспорт! — вошел в будку.
Дверь следом затворилась, кабина озарилась изнутри мягким зеленоватым светом, я не успел даже освоиться в новом помещении, как над головой раздался мелодичный звонок, в стенке цилиндра обозначился выход, и мне стало понятно станция Жмеринка, поезд дальше не пойдет, освободите вагоны.
Летательный цилиндр выставил меня наружу на лесной поляне, неподалеку от просторного бревенчатого дома, окруженного вишневыми деревьями. Вид деревьев определить было нетрудно и издалека — ветки были усеяны спелыми до черноты ягодами.
Я стоял к телефонной будке спиной и сразу почувствовал снова шкурой? — как она исчезла.
«Куда это меня занесло? — подумал Станислав Гагарин. — Беда мне с этими суперсуществами… Впрочем, на выдумку они скупы: второй раз одинаковое авто присылают».
Тут я успел еще переадресовать упрек самому себе, ведь кто иной, кроме Станислава Гагарина, придумывает эдакие штучки-дрючки, по привычке закольцовывая вымысел с реальным собственным бытием, традиционно поиронизировал над сочинителем и собою как персонажем, героем собственного романа и замороченный писательскими думками не заметил, как от неказистого флигелька, скорее летней кухни, подошел Адольф Алоисович Гитлер.
— Волга внизу, — проговорил он, приветливо, улыбаясь, — Великая река, я вам доложу… Лишь такому большому и славному народу, как русский, под силу и под стать владение Волгой. Знать бы мне это в сорок втором… Здравствуйте, Станислав Семенович!
…Нырнув в относительно теплые воды знаменитой реки, и стараясь проплыть как можно дольше под водой, задержав изо всех сил дыхание, я странным образом как бы очутился вдруг в ином месте, плывущем в легководолазном скафандре.
Нахлынуло детское: Моздок, флигель во дворе на улице Соколовского, в нем жил мой друг и одноклассник Шурик Брайнин, а в большом доме пребывала дочь начальника районного масштаба, Лариса Гайдукова, я любил ее в детском садике, когда играли в войну, на которой я был, естественно, комиссаром, а Лариса в роли сестры милосердия вытаскивала раненых с поля боя.
Классический вариант: она меня за муки полюбила…
Тьфу ты, на детскую любовь отвлекся… О Шурике я почему вспомнил? В «Наутилус» Жюля Верна мы с ним играли, в подводную лодку «Пионер», придуманную еще до войны Григорием Адамовым, папаней детективщика, который Аркадий.
Приличная была книга, «Тайна двух океанов» называлась, а вот никто не переиздает… А потому как не порнуха, не обличение культа, не вселенский обсёр русского и советского бытия…
Оттуда и страсть к скафандрам, у Григория Адамова ловкие конструкции были придуманы. Но сейчас присутствовало ощущение некоей цели, к которой стремился Станислав Гагарин.
Потом пришло облегчение, и я понял, что неведомая цель, о которой так и не представилось возможным узнать, достигнута.
Память высветила — я всё еще плыл под водой — строки письма Гитлера к Шпееру, фюрер написал его в конце войны министру вооружения после собственного приказа разрушить всё и вся по территории рейха.
Говоря о немцах, Гитлер утверждал, что «эта нация оказалась слабой и недостойной. Будущее полностью принадлежит сильнейшей восточной нации — России».
— Не хило! — воскликнул я, когда впервые увидел такие строки. — Много ли на свете русских людей, которые знают о подобном утверждении фюрера!?
Станислав Гагарин спросил фюрера о письме Шпееру, когда вышел из воды и прилег на траву рядом с вождем немецкого народа, отказавшему под занавес собственной жизни этому народу в праве на избранность.
— Не скрою, меня греют эти слова, Адольф Алоисович, — признался я фюреру. — Но искренни ли вы были в то время? Не русские ли танки под Берлином повинны в том, что вы прозрели вдруг в отношении России?