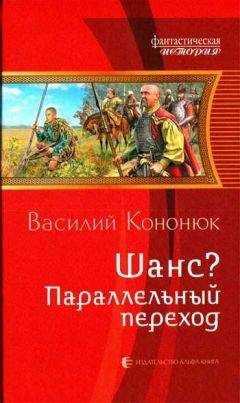Василий Кононюк - Параллельный переход
– Как узнал он, что мы переселенцы с Волыни, вцепился как клещ, пока не согласились к нему ехать. Да и где бы мы, что лучше нашли, кузня, инструмент, хата готовая, все от прежнего коваля осталось, бери и пользуйся. Вдова за то денег не захотела, сказала, как младший сын выучиться, и осядет уже, там должны мы кузню с инструментом, и хату справить за свой кошт. Иллар сказал что то его забота будет, поторговались они с Иваном и вдовой, и сговорились что мы ему пятнадцать золотых, будем должны, а он вдове все купит и за хату с местным атаманом сговорится. На девять золотых, у нас монет сразу набралось, потом еще три отдали, осталось у нас долга, еще три золотых.
Я слушал ее исповедь, подливая вина, то ей, то себе, и думал, сколько лет носила она это в душе, не имея кому рассказать то, что давило и рвалось. Желание перед отцом Василием исповедаться, могло возникнуть только после бочки вина, выпитой вместе, и то, пожалуй, всего бы не рассказывал. И еще мне было досадно, как легко она меня переиграла, даже не задумываясь над этим. На мое нарочито холодное и откровенно недружеское повествование, она интуитивно ответила исповедью, раскрыв передо мной душу, и обнажив сердце. И от того, что, я сейчас скажу, зависело, кем стану в ее глазах, близким человеком, способным понять и сопереживать другим, либо холодным мерзавцем, думающим только о себе. Мою неуклюжую попытку сохранить дистанцию в наших отношениях, она смела, как ураган, да и не может мать жить в неведении, кто рядом с ее сыном, друг или негодяй. Вот и получилось, что мы вернулись к началу разговора, только сделала она это изящным пируэтом, таким, каким в моем воображении, она выигрывала схватки на ножах. Надо будет попросить, чтоб показала, чему там ее боярин научил, такому страшному.
Мы сидели рядом на лавке, не касаясь друг друга, я тихонько взял ее руки в свои, склонившись, прижал их к своему лицу. Потом отпустил и сказал.
– Клянусь, что никогда не принесу вред Богдану, ради своей корысти. И еще, мать, я знаю, ты не со всеми посчиталась, в тот вечер, с кем хотела. Только с тем, кого достать смогла. Обещаю тебе, не знаю, когда это случиться, но Иуда получит свое.
– Не надо, ничего это изменит, и никого не вернет.
– Надо, мать. Нельзя, чтоб такое, без наказания оставалось. Люди в Бога верить перестанут. Ладно, когда оно еще будет, не будем зря разговоры вести. Пойду я в кузню, батю успокою, и пойду Андрея найду, пока они вечерять не сели. Скажи мне только, как ты догадалась, что я не Богдан?
– Да чего тут догадываться. Теперь то я поняла, ты звал Богдана, когда со мной или с сестрами встречался, потому что притворяться не мог, обнимать нас, целовать, душа, видно, твоя болела. Только разница видна большая, когда ты говоришь, а когда он. Девки то не замечают, одна малая еще, другая свадьбы дождаться не может, а я все понять не могла, что ж это такое, пока ты Владимир Васильевич сегодня сам не проболтался. Аж тут я поняла, о чем мне тетка Мотря толковала, и что с Богданом случилось.
– Как ясно стало мне, что наделала, так и похолодело у меня на сердце, одна думка в голове, кому я душу моего Богдана в руки отдала. Начала я с тобой разговор, должна была понять, что за человек рядом с сыном моим очутился. Был бы ты злой человек, Владимир Васильевич, не встал бы ты из-за стола, тут бы и с жизнью простился за этим столом. Освободила бы я и тебя, и сына своего. То мой грех, мне и перед Богом отвечать. А оставить сына рядом с недобрым, лихим человеком, душу его занапастить, то я бы не смогла.
– Только когда руки ты мои, к лицу прижал, тогда отпустило меня, поняла, не нужно будет грех на душу брать, прав Богдан, хороший ты человек. Ладно, беги, а то заболтались мы, будет время еще поговорить. Только смотри, при других, только одно лицо показывай, люди разные бывают, как бы беды не случилось.
То с каким равнодушием она рассуждала о том, что могла меня ненароком упокоить, если бы ей не понравился мой моральный облик, немножко задело, и не скрывая иронии в голосе, решил засомневаться в ее киллерских способностях.
– Ну, спасибо тебе, что жизнь оставила, что приглянулся я, тебе, душевностью своей. Только не думай женщина, что меня так легко убить.
– Любого легко убить, – равнодушно ответила мать, не реагируя на мою иронию, – подобраться тяжело бывает.
– Так может научишь, меня дурака – начал уже откровенно кривляться, пытаясь вывести ее из душевного ступора, вызванного таким непростым вопросом, убивать своего сына вместе со злодеем, или дать им еще вместе побегать. Мои усилия принесли результаты.
– Чудной ты, Владимир Васильевич, иногда говоришь как муж, многое повидавший, а иногда, чисто петушок, который то толком и кукарекать не научился, а уже на забор прыгает. – Мать иронично разглядывала меня, повернув ко мне голову. – Поучить тебя дурака, ну раз просишь, изволь.
Мы сидели на лавке, мать, по правую руку от меня. Все произошло мгновенно. Ее левая рука взяла мою правую руку, слегка потянула вперед, и отпустила. Используя меня как опору, мать стремительно разворачивалась на лавке, вскинув вверх ноги, и ее правая рука, с разворота, несильно, но ощутимо, ударила меня чем-то твердым в затылок. Столь же стремительно развернувшись обратно, и забыв обо мне, мать задумчиво разглядывала короткий, прямой, обоюдоострый кинжал, хищной голубизной отсвечивающий в ее правой руке. Его рукояткой, вовремя повернув кисть, она только что продемонстрировала мне, что жизнь, это действительно, только миг, между прошлым и будущим, и как легко прервать, этот миг, ослепительный миг.
Остался только неясным момент, как этот симпатичный предмет оказался в ее руке. Теоретически было понятно, что она выдернула его из сапога, пока совершала поворот на 180 градусов, не вставая с лавки. Но как это можно было практически осуществить, за этот ослепительный миг, пока она мне не врезала по затылку, осталось для меня загадкой. Или она каждый день тренируется, как народ на ножик наколоть, или одно из двух.
– Может ты и хороший воин, не мне судить, Степан тут соловьем заливался, тебя расхваливал. Но всегда помни, любого легко убить, если подобрался близко. Иди зови отца, скоро вечерять пора уже.
– Спаси Бог тебя за науку, мать. Может, будет время, еще поучишь. – Пытался с достоинством выйти из хаты, быстро побежать в лес, найти пенек, и биться, биться в него головой, долго, пока не поумнеет.
Батя нашелся в кузне, где он, уже в который раз, перебирал и чистил инструмент. Он коротко взглянул на меня, и продолжил свою работу. Подойдя к нему сзади, и обняв за плечи сказал
– Пустое это все, батя, даром мучишь себя, и всех вокруг. Дурное люди болтали, а ты слушал, и Тарасу видно в ухо залетело. Что было, то былью поросло, незачем то ворошить. Мы тут одни, ни родичей рядом, ни друзей старых. Если мы еще друг дружку грызть начнем за то, что люди языками полощут, то житья нам не будет.
– Не о том ты говоришь Богдан, то, что люди болтали, я завсегда мимо ушей пускал. Не то меня грызет. А то, что из-за прихоти моей, жизнь наша порушилась, пришлось нам бросать все, и на край света забираться. Что из-за прихоти моей, жена на душу смертный грех взяла, а сын зброю в руки взял, и тем дальше жить мечтает, о душе своей забывши.
– Ты батя, себе на плечи много не бери, и голову тоже мыслями не утомляй. На все воля Божья. Судьба такая тебе была на кузнеца выучиться, то от Бога судьба, а не от прихоти твоей. Мать нелюди, детоубийце, кару принесла, разве не Бог вел руку ее? О каком грехе ты толкуешь? Казаки разве не со зброей живут, землю от басурман защищают? Ты батя о том, лучше с отцом Василием потолкуй, а то сдается мне, ты запутался совсем.
– Так я с ним и толковал, в прошлое воскресенье, после службы в церкви, вы как раз в поход уходили.
– Так то он тебя, видать, не понял, разволновался совсем, в субботу двое похорон справлял, уставший он был. Не бери в голову, в другой раз еще поговоришь, он тебе лучше растолкует. Мать вечерять кличе, я к Андрею побегу, и сейчас вернусь.
Идучи к Андрею, поставил себе три зарубки.
Первая. Если мать ничего не путает, то проявилось мелкое отличие истории этого мира, от моего. Старый князь, будем считать, что это Ольгерд, умер, когда Богдану был год, в 1377 году, тут полное совпадение. Но то, что Волынь поделил с Польшей уже его сын, назовем его Ягайло, через год после смерти отца, это было что-то новое. Точно помню, Ольгерд заключил мир с поляками, и поделил Волынь, перед своей смертью, чтоб не оставлять после себя не законченную войну. Скорее всего, это говорит о более напряженных отношениях Польши и Литовского княжества, в этом мире, нежели у нас. Но это пока никакого практического значения не имеет, а вот то, что батя рассказал, имеет огромное.
Вторая. Надо наводить мосты с отцом Василием, а то он начинает потихоньку мутить воду. Совершенно непонятно зачем он отца шпынял, и всю ответственность на него повесил. Хотя, действительно, самое простое объяснение, это просто головная боль с перепою, и желание поскорее отделаться от надоедливого прихожанина, который не въезжает в ситуацию, и не дает уединиться с бочонком бражки. Но отрицательное отношение не только ко мне, но и ко всему семейству, очевидно.