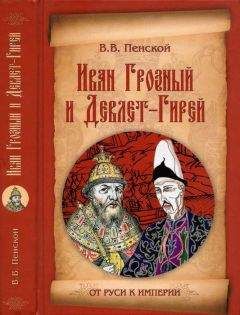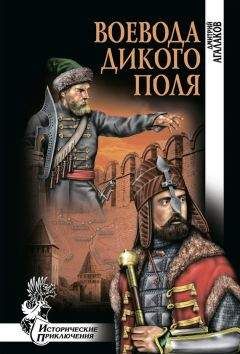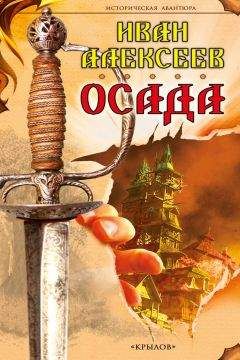Иван Алексеев - Засечная черта
Первым желанием девушки было броситься навстречу однополчанам Михася — поморским дружинникам, закричать, что их раненый товарищ находится в опасности. Сейчас он в одиночку из последних сил бредет через лес, спасаясь от погони, и нуждается в их немедленной помощи.
Однако в следующий миг Анюта буквально застыла на месте, словно окаменев. Среди дюжины всадников она вдруг увидела двух женщин. Одна из них, легко соскочив с коня, пошла к стоящей возле плетня Анюте, которая смотрела во все глаза на вторую женщину. Та как-то необычно, боком, сидела на высоком гнедом скакуне, стройная и грациозная. Широкий подол ее собольей шубы изящно свешивался с седла почти до самых стремян, серебрясь и играя легчайшим драгоценным мехом. Чуть рыжеватые волосы незнакомки были гладко уложены в невиданную красивейшую прическу, увенчанную, как короной, чудесной шапочкой из того же собольего меха. Ее серые глаза смотрели на весь мир гордо и, как показалось Анюте, свысока и презрительно. Изящная тонкая рука женщины, затянутая в замшевую перчатку с меховой оторочкой, твердо и уверенно держала узорчатый повод.
Анюта молчала, застыв, завороженно глядя на прекрасную всадницу, и не услышала половину из того, что произнесла подошедшая девушка, которая вряд ли была старше самой Анюты. И лишь одно слово из сказанного — «невеста» — громом ударило в уши Анюте, многократным эхом прокатилось в ее душе, вывело из забытья.
— ...и его невеста, разыскиваем этого раненого дружинника. Не видала ли ты, милая девушка, кого-либо похожего, не слыхала ли случаем о нем?
Анюта наконец очнулась, в упор посмотрела на спрашивавшую. В ее лице было что-то до боли знакомое, почти родное, но Анюта готова была поклясться, что никогда прежде не встречалась с этой девушкой. А слово «сестра», произнесенное в самом начале задаваемого ей вопроса, Анюта, поглощенная созерцанием всадницы, пропустила мимо ушей.
— Нет, боярышня, не встречала я никакого такого дружинника и ничего не слыхала о нем, — голос Анюты был настолько бесцветным и равнодушным, что мог ввести в заблуждение даже очень опытного собеседника.
— А как ты думаешь, кто недавно тут, возле твоего двора, вашего односельчанина убил? Наш друг воевода, — допрашивающая Анюту девушка особо подчеркнула последние слова, давая понять, что она не праздношатающаяся подозрительная личность, а особа приближенная к официальным властям. — Наш друг воевода специально нас сюда послал, чтобы и это злодеяние заодно расследовать.
— Не знаю, боярышня, — повторила Анюта по-прежнему отстраненно и без малейших эмоций. — Наверное, медведь задрал.
— Медведь? — изумилась собеседница. — Как же медведь мог человеку шею свернуть?
— А кто ж их знает, медведей-то! Прости, боярышня, недосуг мне тут с тобой разговоры разговаривать, на работу уже пора.
Собеседница кивнула, отвернулась от Анюты, направилась к своим спутникам, что-то сказав им на непонятном языке.
«Надо будет попросить Михася и отца Серафима, чтобы научили меня иноземному наречию», — подумала Анюта и, не глядя более на всадников, галопом промчавшихся мимо нее в другой конец села, уныло, едва передвигая ноги и зябко кутаясь в старенький рваный овчинный полушубок, побрела привычной дорогой на теткино подворье, к скотине, навозу и каждодневному тяжкому труду.
Отец Серафим только-только вернулся из монастыря и прочитал оставленную на столе записку. А еще он заметил в ските явные следы чужого пребывания и обыска. Но записку вторгнувшиеся к нему неизвестные сыщики не тронули, судя по всему, среди них просто не было грамотных людей. Отшельник не на шутку встревожился, опасаясь, что Михась и Анюта попали в какую-то беду, а он ничего не знает об их судьбе и не имеет возможности им помочь.
Отец Серафим растопил печь, чтобы немного отогреться после трудного пути по лесу в снег и метель. Он сел на лавку, почти без сил, не снимая шубейки, прислонился спиной к еще холодной печке. Ему надо немного отдохнуть и подумать. Отшельник не может сам идти в село, появляться на людях. Однако он обязан что-то предпринять, ибо сердце подсказывало монаху, что его молодые друзья находятся в опасности.
Сидя у печки, начинавшей постепенно излучать тепло, отец Серафим невольно задремал, как вдруг встрепенулся от звука распахиваемой входной двери. Еще не выйдя из полудремы, монах вскочил, инстинктивно принял боевую стойку, затем, опомнившись, смиренно сложил руки на груди, склонил голову, зашептал молитву.
Михась, ввалившийся в избу, весь в снегу, успел заметить это первое невольное движение отца Серафима, но не подал вида, а лишь перекрестился на иконы и стоял, тихонько отряхивая снег с волос и одежды, почтительно ожидая, пока монах закончит читать молитву.
— Здравствуй, сыне!
— Здравствуй, отец Серафим! Ты извини, что я за порогом снег с себя не стряхнул, но там такая метель, что... — Михась лишь махнул рукой.
— Проходи, проходи. Не стесняйся! Рад видеть тебя в добром здравии. А то, признаться, взволновали вы меня своей запиской. Анютушка, надеюсь, тоздорова?
— В общем, да, — ответил Михась после некоторого колебания.
Отец Серафим уловил неуверенность в ответе дружинника.
— Ну что ж, сыне, садись вот сюда, к печи, да рассказывай.
— А ты сам-то как, отец Серафим?
— Обо мне — потом. Вначале поведай без утайки, что тут у вас стряслось.
Выслушав рассказ Михася, монах долго молчал.
— Я тебе не судья. Ни тебе, ни ей, — наконец печально произнес отец Серафим. — Буду теперь денно и нощно молить Господа Бога нашего, чтобы простил вам грехи... А ты на вот, поешь, мне братия монастырская всякой снеди с собой дала. Да ложись-ка отдыхать, а то тебя вон, даже сидючи, шатает из стороны в сторону. Утром продолжим беседу.
Михась, почти не разжевывая, проглотил протянутый монахом пирожок, хлебнул квасу и буквально рухнул на лавку.
— Завтра сюда, в скит, Анюта должна прийти как обычно, — пробормотал дружинник, засыпая.
— И с ней побеседуем. — Монах тяжело вздохнул и бережно укрыл Михася тулупом, а сам, не притронувшись к пище, опустился на колени перед иконами.
Михась проспал почти сутки и проснулся от звуков голосов.
— ...да, отец Серафим, я решилась на это твердо!
— Ну что ж, дочь моя! Ты сама выбрала свой путь. Не считаю себя вправе тебе препятствовать. Все в руках Божьих.
Отец Серафим и Анюта беседовали почти шепотом, явно не желая разбудить дружинника.
Михась, устыдившись тому, что невольно подслушивает чужую беседу, рывком поднялся с лавки и с удивлением обнаружил, что это получилось довольно легко и почти безболезненно.
— Здравствуй, Анютушка! — радостно приветствовал девушку дружинник и осекся на полуслове, увидев ее лицо.
Анюта сидела бледная и напряженная, с потемневшими глазами. Ее губы были плотно сжаты, резче обозначились скулы, между бровями залегла суровая складка. Казалось, за те полтора дня, прошедшие с момента расставания с Михасем, девушка повзрослела на несколько лет.
— Здравствуй, Михась, здравствуй, милый! — голос Анюты был прежний, ласковый и приветливый. — Как ты себя чувствуешь после похода?
— Все отлично! — искренне ответил дружинник. — Наверное, благодаря твоим заботам и стараниям отца Серафима я, наконец, стал окончательно выздоравливать.
— Ну вот и славно! Сейчас поешь, а потом, как и обещал, давай упражняться вместе в воинском деле! — Анюта произнесла последние слова, пожалуй, излишне громко и преувеличенно твердо и с некоторым вызовом посмотрела на отца Серафима.
Тот опустил глаза, сложил ладони и, по-видимому, принялся произносить про себя слова молитвы.
— Давай! — Михась, обрадованный своим хорошим самочувствием, веселым голосом Анюты и отсутствием возражений со стороны монаха, выскочил из избы, быстро умылся свежевыпавшим снегом, а затем, сев за стол, с аппетитом поглотил изрядную долю съестных припасов, доброхотных даяний, принесенных отцом Серафимом из монастыря и Анютой из села.
— Дружинница Анюта! — шутливо скомандовал Михась, покончив с приемом пищи и поднимаясь из-за стола. — Приказываю приступить к воинским упражнениям!
— Слушаюсь, господин воевода!
Они, радостно смеясь, выбежали на поляну. Монах скорбно посмотрел им вслед и вновь встал на колени перед образами.
Вечером, когда Анюта уже ушла, Михась и отец Серафим вновь сели за трапезу. Монах долгое время молчал, и дружинник, почувствовав в этом скорбном и суровом молчании какое-то напряжение, не посмел нарушить его вопросом. Наконец отец Серафим поднял глаза, печально и задумчиво взглянул в лицо дружиннику:
— Ведомо ли тебе, Михась, что Анюта хочет покинуть свое село, своих родных и близких и уйти с тобой?
— Нет, — в голосе Михася звучало неподдельное изумление. — Как это — уйти со мной? Куда уйти?
— Ты же ведь не останешься здесь навсегда?
— Нет, конечно! Оправлюсь от ран и буду пробираться к своим.