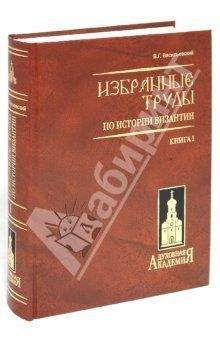Евгений Витковский - Павел II. Книга 1. Пронеси, господи!
Досифей Ставраки, обер-прокурор.
Неизвестный молодой человек с топором (в Питере).
А также:Милиционеры, ученые, медики, колдуны, артисты, посетители трактира «Гатчина», писатели, жители Аляски, рынды, скопцы-субботники, поручики, рыбоводы, жеребцы, скопцы, певцы, волки, лисы, дипломаты, креолы с Аляски, митрополиты, артисты, рыбы, куры, петухи, аисты и живые покойники.
…толковый и способный, со значком, возражая товарищам, которым казалось ни к чему знать такие грамматические тонкости, как сказуемое и подлежащее, сказал не без сердца: «Если мы свой родной язык не будем знать, то дойдем и до того, что потеряем и свою православную веру и крест снимем с шеи, какие же мы после этого коммунисты?»
АЛЕКСЕЙ РЕМИЗОВ.
ВЗВИХРЕННАЯ РУСЬ,1924
1
И не одно сокровище, быть может,
Минуя внуков, к правнукам уйдет…
О.МАНДЕЛЬШТАМОтца похоронили в самом начале сентября. Умер он в больнице, говорили, что легко, во сне — сказалось больное сердце. Денег на похороны, особенно на поминки, ушло порядочно, но Павлу было не жалко, отца он любил; к тому же и Павел, и Софья унаследовали от него по солидному срочному вкладу, около восьми тысяч каждый. Скуповатый отец копил всю жизнь, и «все — вам — останется» в эти сентябрьские дни облеклось тощей плотью завещательной сберкнижки.
На поминках много пили, долго и прочувствованно повторяли, что «Федор Михайлович всю жизнь был истинным педагогом — и этим все сказано», что «Федор Михайлович всю жизнь стоял на посту настоящего советского учителя», — разное другое в том же духе. Павел и его жена Катя мыли посуду после поминок, обсуждая возможность встать в очередь на «Ниву», — правда, еще дозанять надо немного, — но у Софьи просить было явно бесполезно, она мало того что посуду мыть не помогла, а слиняла с середины поминок с благоверным Виктором, — но до того успела проесть Павлу и Кате плешь за неэкономный мясной пирог с хреном, «испеченный в честь охотничьих страстей покойного», на который, по мнению Софьи, можно было бы поехать в Цхалтубо. Да и вообще Софья заявила прямо, что оставит деньги на срочном вкладе.
Собственно, Павла и Софью теперь ничто не связывало. Она была его сестрой только по отцу; ее мать, первая жена отца, Рахиль Абрамовна, умерла через две недели после родов. Еще через шестнадцать месяцев вторая жена отца, Валентина, выйдя из роддома с маленьким Павлом, занялась воспитанием обоих детей.
Секрета не получилось: с самого раннего детства Павел и Софья знали, что мамы у них разные. И очень рано затлел в душе Павла нехороший огонек — его мать тоже умерла, отец явно любил дочку больше, нежели сына, при этом Софья считала своего младшего брата сущим ничтожеством.
Перед самым снятием кукурузного премьера Павел получил в школе аттестат, отслужил пакостную нестроевую, поступил в педагогический. Еле-еле окончил и пошел работать в ту же школу, что и отец, только тот преподавал литературу, а сын — историю. Павел женился, но детей как-то не намечалось, жили втроем Федор Михайлович и сын с невесткой. Софья ушла замуж, когда Павел был еще в институте, и проживала с мужем — старше ее лет эдак на полтора десятка, Виктором Глущенко, директором автохозяйства. У нее детей — деликатно говоря, официальных — тоже не было, а сын Глущенко от первого брака, Всеволод, к моменту смерти Федора Михайловича отбывал одиннадцатый год исправительно-трудовых работ за некую ошибку юности, о которой слухи ходили самые разноречивые — не то он отделение милиции ограбил, не то группу милиционеров изнасиловал. Павел, во время совершения оных невероятных событий сдававший экзамены за четвертый курс, вовсе ни в чем разобраться не мог, но знал, что Глущенко публично от сына отрекся. Знал и то, что Глущенко панически боится возвращения сына, которому к отбытию полного срока должно было стукнуть неполных тридцать три года.
Школьники старших классов, вот уже десять лет проходившие под руководством Федора Михайловича «Преступление и наказание» (до того Достоевский в программе отсутствовал вовсе), из поколения в поколение звали его безобидным прозвищем «Достоевич». Совпадение имени и отчества как бы перевешивало бесцветную фамилию, она отходила на задний план, в прозвища не просилась. Не то получилось с сыном. Преподаватель истории П.Ф. Романов скоро и единодушно был прозван «Павел Второй». Особой популярности прозвище не имело: изысканно чересчур и уму простого школьника недоступно. Злило только отчего-то отца.
Отец копил деньги — ясное дело, не из учительского жалования. Все свободное от работы и охотничьих сезонов время он посвящал главной своей страсти — художественной резьбе по рисовому зерну. Выгравированные им на рисовом зернышке, а то и на восьмушке такового, тексты «Интернационала», Коммунистического Манифеста, статей Мичурина, Горького, Сталина, а позднее «Слова о полку Игореве», «Теркина на том свете», «Судьбы человека» и «Каштанки» приносили ему бесчисленные грамоты ВСХВ (позднее — ВДНХ) и разных других выставок. Скажем, трудно ли было народному умельцу-самоучке Федору Романову, прослышав, что во Фрунзе открывается республиканская выставка, послать ей в подарок какое-нибудь самое лучшее стихотворение великого акына Токтогула на языке оригинала, снабженное портретом автора, не очень, правда, похожим, — отец рисовал весьма средне, — на половинке там или на тридцатидвушке; за подарком неизменно следовала премия, а за премией один-два хорошо оплачиваемых заказа. Вот от этих-то премий, а порою и от продажи своих шедевров и получал Федор Романов те деньги, которых хватило ему на покупку нового ружья, породистого щенка настоящего русского спаниеля, на второй микроскоп, главное же — на сберкнижку «все — вам — останется», точней на две сберкнижки, ибо не единожды доводилось Павлу слышать, что более всего на свете не хотел бы отец, чтобы дети перессорились после его смерти. Они, впрочем, перессорились гораздо раньше, а из-за чего — так верней всего из-за того, что «слово по слову — банником по столу», как выражался Виктор Глущенко, пускаясь затем в долгие объяснения, что такое банник.
О раннем отрезке жизни отца Павел знал совсем мало. Из того, о чем родитель раз в год проговаривался, Павел уяснил, что родился папаша за несколько лет до революции, в семье сельского, что ли, учителя, что деда звали Михаил Алексеевич, и что погиб дед при каких-то темных обстоятельствах в 1918 году. Судя по плохо скрываемой злости, с какой отец произносил слово «погиб», Павел догадался, что деда, похоже, расстреляли. Дальше спрашивать было бесполезно, других же родственников у Романовых не имелось.
Впрочем, года за три до кончины Федора Михайловича уверенность Павла в том, что никаких родственников у него больше нет, поколебалась. Почтальон вручил отцу необычной формы голубой конверт без фамилии адресата, но с их адресом — Восточная, 15. Внутри лежал плотный кусочек картона, и на нем стояла одна фраза по-русски, печатными буквами:
«Сообщите, что известно о судьбе Михаила А. Романова и его сына Федора по адресу: Лондон…»
Адрес Павел прочесть не успел, но заметил, что руки у Федора Михайловича задрожали. Отца он изучил хорошо, не задал ему ни единого вопроса. Через час отец не выдержал сам.
— Помнишь письмо? — спросил он, когда Катя вышла в магазины. — Это тетка твоя объявилась, Александра. Я-то думал, ее на свете давно нет. Решил отвечать не буду. Ты как?
— Не отвечай, если не хочется, — сказал Павел с видом полного равнодушия, что и возымело свое действие; отец разговора не оборвал, как сделал бы в любой другой раз, а продолжил:
— Она ведь с отцом вместе погибла. Я так думал. Говорили, что жива. Не верил. И с анкетами что теперь делать? Узнают ведь.
— Насчет родственников за границей?
Это была промашка, надо бы в разговоре с отцом ничего не понимать, сидеть пень пнем, тогда, глядишь, он о чем-нибудь и еще проговорился бы. Но отец, видимо, тут же принял какое-то решение, а стало быть — и обсуждать с сыном было больше нечего. Позже вел он себя так, словно ни письма, ни разговора не было. Приступил к новой работе: резал на рисовом зерне текст сохранившихся отрывков десятой, уничтоженной главы «Евгения Онегина». Казалось, работа не только всецело поглотила его, но в ней находил он силы справляться решительно со всем, даже с приступами стенокардии. Двух-трех минут возле столика с микроскопами хватало ему, чтобы сердце отпустило. Отчего-то строки Пушкина, которые сам Федор Михайлович называл не самыми сильными, стали его последним жизненным утешением.
Рисовые занятия не принесли отцу семейного уважения. Давно покойная Валентина любила повторять о муже: «Велик в мелочах», добавляя, что вот как только о чем серьезном попросишь, так, мол, уже не особенно велик. Даже бесчисленные грамоты отца, которые он развешивал в кабинете и коридоре, вызывали у нее только кислую гримасу: «Пылища». Впрочем, мать Павла умерла слишком давно, а детям Федор Михайлович свою деятельность критиковать не дозволял категорически. Незадолго до смерти составил он каталог своих работ и положил его под стекло на микроскопном столике.