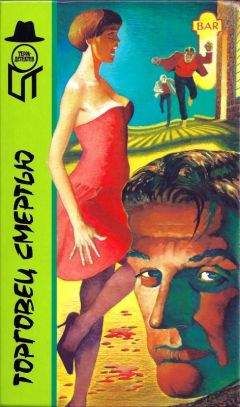Кевин Кроссли-Холланд - Костяной браслет
— Вот она где! — раздался позади нее голос.
Сольвейг мигом спрятала брошь в кулаке и сунула руку под шерстяной плед.
— Да она свихнулась, — прокричал Кальф. — И промокла насквозь!
А затем он подошел к Сольвейг сзади и дернул ее за плечо:
— Я все видел. Что у тебя там?
— Ничего.
— Лгунья! Что это?
— Я уже сказала, ничего, — повторила Сольвейг.
— Сам узнаю. — Голос его звучал пренеприятно. Кальф схватил девушку за руку.
Сольвейг так крепко сжала брошь, что углы украшения вонзились ей в ладонь. Она стиснула пальцы еще сильней, пока не показалась кровь.
— А ну покажи! — потребовал Кальф.
— Оставь меня в покое!
— В чем дело? — позвала из дома Аста. — Кальф, прекрати!
Тот отступил, но напоследок пригрозил:
— Я все равно узнаю, что бы ты там ни прятала.
3
Когда зима сжимает кулаки, когда хрустят кости льда и все наполняется волчьим воем, невозможно ни вести за собой, ни самому идти следом, да что там — нельзя и шагу сделать от теплого очага. Остается только ковырять мерзлую землю в поисках репы и моркови, поить коз, коров и блеющих овец, давать им сено. Еще можно буравить дыры во льду, насадить наживку на крючок и ждать, когда клюнет щука, а то и сельдь или макрель. И вот ты сидишь, пьешь эль, жуешь сушеное мясо, растираешь обмороженную кожу и ждешь.
Дни становились все короче, но были порой столь ослепительны, что Сольвейг чувствовала, будто ей в глаза вонзаются мириады крохотных игл. А ночи удлинялись.
Порой по утрам Кальф работал в маленькой кузнице. Он кидал дрова в горн, растапливал куски железа, которые они с Хальфданом привезли из Трондхейма, и принимался за изготовление нового котла. Были у него и другие дела. Юноша заточил все ножи в доме, все топоры, даже ножичек Сольвейг для резьбы. И язык свой он тоже держал отточенным, не упуская случая кинуть в сводную сестру острым словцом.
Ясноокий Блубба работал бок о бок с братом. Насвистывая или напевая обрывки песен, он ковал из железа длинные ленты и опоясывал ими старую кадушку для молока, ибо та уже прохудилась по швам. Смастерив обруч, Блубба крепил его на железные гвозди.
А однажды он пошел с Сольвейг через холм в березовую рощицу. Поработав топорами, они срубили дерево и вместе дотащили его до хутора. Если выдавалось солнечное утро, Сольвейг доверху набивала корзину грязной одеждой и стирала ее у причала. От мыла с крупинками золы разило овечьим жиром. Она выкладывала одежду на просушку прямо там, у воды, и прижимала камнями, а когда возвращалась, ткань успевала задубеть.
— Наш старый парус, — промолвила Аста. — Весь в дырах, словно сито.
— С ним все хорошо, — отозвалась Сольвейг.
— Да неужели?
Сольвейг обидели не слова, а то, как произнесла их мачеха.
— Это тяжкая работа, Сольвейг, я знаю. Но что еще нам остается — мне, тебе, Кальфу и Блуббе? А твой отец… он Эйнару бы и в подметки не годился…
Сольвейг уставилась на известковый пол.
— Никто не смел помыкать Эйнаром. И он бы никогда не ушел от семьи.
У девушки защипало в глазах.
— Но что нам остается… — повторила Аста. — Мы должны работать еще усерднее.
Порой Аста прищуривалась и будто читала мысли падчерицы.
Однажды, когда Сольвейг ткала грубое сукно для нового паруса, мачеха сказала ей:
— Ты бы не добралась до Трондхейма. Тебя бы сожрали волки.
И снова:
— Слова, слова! Обещания — это просто слова. Как скажешь, так и нарушишь.
Был и третий раз. Сольвейг нарезала воск для свечей, и Аста сказала ей:
— Ты еще совсем девочка, Сольвейг. Тебе всего четырнадцать зим. Ты мягкая, как воск.
Кальф услышал слова матери:
— Да, мягкая, и вся набита тайнами.
Сольвейг сжала пальцы на рукояти своего ножа.
— Мы с Блуббой никак не можем взять в толк, о чем она думает.
— А вот я прекрасно это знаю, — ледяным тоном произнесла Аста. — Я в точности знаю, о чем она думает.
Глаза Сольвейг застлала горячая пелена. Девушка не поднимала глаз от куска воска и раз за разом вонзала в него нож.
— Но все-таки кое-что мне известно… — медленно начал Кальф. Сольвейг затаила дыхание. — Мне известно, что она что-то скрывает… и я выясню, что же это такое.
Иными вечерами Аста дремала у очага, утомленная дневными трудами, а ее сыновья слонялись в темноте снаружи или до одури напивались элем. Но Сольвейг, не сгибая спины, сидела на скамье, шлифуя моржовую кость, пока та не приобрела овальную форму. Тогда девушка принялась вырезать на ней руны.
«По-настоящему его звали Ассер Ассерссон, — думала она. Его мать была родом из Швеции, а его отец — датчанином. И поэтому его все называли Хальфданом, наполовину даном.
А маму я не помню. Она умерла, чтобы дать мне жизнь. Ее имя было Сирит, но папа всегда звал ее Сири. Когда он произносит имя матери, его голос звучит так мягко.
И он единственный из всех, кто сокращает мое имя. Сольва, говорит он. Сольва. Сила солнца!
Он не любит Асту так, как до сих пор любит маму, и Аста отвечает ему тем же. Сердце ее все еще отдано Эйнару, ее первому мужу, отцу Кальфа и Блуббы. Он утонул.
Я думаю, что отцу нужна была женщина, а Асте — мужчина. Просто так удобнее. Так легче вести хозяйство и воспитывать детей. Они часто ругались и порой отправлялись спать, так и не помирившись.
Наверно, папа был рад избавиться от ее злого языка. Да и от острого словца Кальфа тоже — они стоят друг друга.
Ему никогда не нравился Кальф, а Кальфу никогда не нравилась я.
И похоже, Аста не так уж убивается по отцу, хотя и жалуется. Да, без него работы стало еще больше. Но… но ты же обещал. Ты ведь должен был знать, что это был наш последний день вместе. Ты должен был знать.
Тебе четырнадцать, Сольва. Ты восходишь к пятнадцатилетию… Тебе пятнадцать, и ты восходишь, словно солнце.
Ты не уезжал, потому что ждал, пока я вырасту?»
Однажды из Трондхейма пришел молодой христианский священник, Петер. Он хотел поговорить с Астой и ее соседями о строительстве храма. Начал речь он так:
— Король Олаф приплыл с воинами из Гартара, чтобы вернуть свой трон и земли. Он сражался во имя Белого Христа.
— Не больно-то ему это помогло, — отозвалась Аста.
— При Стикластадире за короля сражались три тысячи людей, — продолжил Петер. — Норвежцы и шведы бились плечом к плечу.
— Вовсе не потому, что они приняли христианство, — возразил Старый Свен. — Просто Олаф был их законным владыкой.
Юный священник вздохнул и сцепил руки в замок:
— Но силы были неравны: на одного бойца приходилось десять противников. На стороне конунга Кнута воевала огромная толпа языческого отребья. В Норвегии еще не видели такой огромной армии. И пусть погиб король Олаф, но Христос, Владыка Мира, пребывает вовек.
— Не читай мне наставлений о той битве, — ответила Аста.
— Из семей, что живут у фьорда, в каждой потеряли отца, сына или брата, — добавил Старый Свен.
— Я одного не понимаю, — обратилась к священнику Сольвейг. — Разве может Белый Христос ступать по крови? Ты твердишь, что он — Владыка Мира, но король Олаф и его войско размахивали боевыми топорами. Как же можно прощать и мстить одновременно?
Петер, молодой священник, с жалостью улыбнулся Сольвейг:
— Мы прощаем тех, кто желает креститься; упорствующих же надлежит сокрушать.
В разговор вступила Аста:
— Семьи многих наших соседей были крещены, но это не мешает им поклоняться Одину и другим богам.
Священник покачал головой:
— Я буду молиться за вас. А потом навещу снова.
Как-то раз Блубба спросил Сольвейг, почему ее отец покинул их и уплыл, и Сольвейг ответила:
— Он ушел, потому что пообещал. Он выполнил клятву.
Блубба нахмурился.
— Он сказал Харальду Сигурдссону, что последует за ним. Ты помнишь Харальда?
— Почти нет.
— Он был даже выше, чем отец.
— Это я помню.
— Он громко говорил и громко смеялся.
— Да, я не забыл.
— Когда они с отцом сражались в битве при Стикластадире, ему было пятнадцать, а тебе — всего четыре. — Сольвейг жестом пригласила Блуббу присесть рядом. — Он, Харальд, был рожден, чтобы повелевать. Можешь не сомневаться, что они с отцом вернутся, чтобы отомстить за смерть короля Олафа.
— Когда? — вопросил Блубба.
— А знаешь ли ты, — продолжала Сольвейг, — когда Харальду было всего три, он сказал своему сводному брату, королю Олафу, что больше всего на свете хочет получить боевые корабли. Не еду, не игрушки, не оружие. Боевые корабли!
— Я бы хотел, чтобы Хальфдан вернулся, — заявил Блубба.
Сольвейг шумно сглотнула. И спросила:
— А ты? Что бы ты выбрал? Чего ты хочешь больше всего на свете?


![Ричард Пратер - Торговец плотью [= Торговец живым товаром]](/uploads/posts/books/248498/248498.jpg)