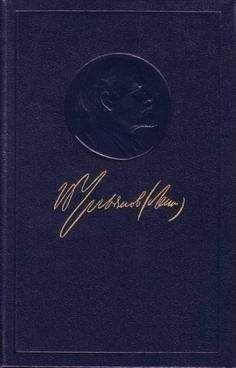Вильгельм Зон - Окончательная реальность
– Конечно, конечно, молодой человек! Спасибо! Очень рад, – разволновался старьевщик.
– А есть что-нибудь с Востока? – заговорщицки поинтересовался Бондаренко. – Новенькое?
Вассертрум оглянулся и тихо сказал:
– Новенького, к сожалению, ничего нет, но скоро будет. Есть кое-что из старенького, только – объемная вещь, на любителя.
– И что же?
– «Тихий Дон» Шолохова, – шепнул Вассертрум.
– Про казаков, что ли? – скривился Бондаренко. – Это не для меня. Может, Вильгельм возьмет. Ты же из тех мест. Тебе, наверное, интересно.
– Вы с Дона? Мне показалось, что Вассертрум не слишком удивился.
– Нет, из Готенбурга, но служил на Дону. А что это за книга – «Тихий Дон»? Я не слышал.
– Не удивительно. Интересная книга, но коммунистической ориентации. Не издавалась после войны даже на Востоке, а у нас, в Европе, и говорить нечего. Сажать за нее не станут, но уволят в два счета. Так что если будете брать – поаккуратнее.
– Сколько? – спросил я.
– Шестьдесят, – ответил Вассертрум и полез под прилавок.
* * *Бондаренко подвел меня к причудливому арочному входу на станцию метро «Лермонтовская». Мне впервые предстояло спуститься в знаменитую московскую подземку. Утром до лаборатории я добирался от Курского на такси, боясь заблудиться в жутком хитросплетении приграничных переулков, обозначенных на моей карте. Бросив двадцатикопеечную монету в механический турникет и спустившись вниз на эскалаторе, мы очутились в странном зале с богато украшенными лепными потолками. Продолжать движение вглубь, в пугающие недра, или броситься обратно, наверх, к свету? Видя мое замешательство, Бондаренко указал на большую цветную схему, прикрепленную к одной из стен. – Где будешь жить? – спросил он. Я порылся в небольшом дорожном рюкзаке, который стал заметно тяжелее из-за купленных на барахолке книг, и выдернул мятую бумажку с адресом. – Вот, общежитие, адрес: Козицкий переулок, дом 2. – Ага, значит, тебе надо до «Брониславской», зеленая ветка, а потом минут десять пешком в сторону Кремля. Молодец, будешь жить в самом центре, однако остерегайся проходных дворов. Я взглянул на схему, собираясь найти указанную станцию. Три жирные линии пересекались в центре. Красная шла наискосок, с северо-востока на юго-запад. Фиолетовая – строго горизонтально с запада на восток. Зеленая спускалась с северо-запада и упиралась в точку пересечения красной и фиолетовой. Я вспомнил про спектр Бондаренко и обрадовался, что буду жить на зеленой.
«Лермонтовская», безусловно, главная для меня станция Московского метрополитена, хотя я объездил их все, все без исключения. Познакомившись в скором времени с другими сотрудниками лаборатории, я обрел друзей, которые за несколько лет совместной работы рассказали и показали мне многое. Загадки и тайны старого метро я изучал под руководством доктора Кнорозова, испаниста и знатока подземелий не только индейского Юкатана, но и советской Москвы.
В самом центре подземки станция «Новый мир». Кому пришло в голову так назвать ее, не знал даже Кнорозов. До войны она носила имя «Площадь Революции», теперь именовалась как известный советский литературный журнал, прекративший существование в 1941 году. Скорее всего, название выбиралось такое, чтобы можно было сохранить великолепные скульптуры Манизера, увязав их с изменившейся политической реальностью. В конце концов, действительно, в новом европейском мире нашлось место и для молодого изобретателя, и для шахтера-проходчика, и для механизатора.
Пионерки с глобусом вполне походили на юных участниц общества германо-российской дружбы, а студент со студенткой изучали то, что и положено изучать в сложившихся обстоятельствах.
Кое-какие детали, конечно, пришлось менять. Вместо надписи «Марат» на бескозырке матроса-сигнальщика поместили «Варяг», у девушки-снайпера зашлифовали на груди значок «Ворошиловский стрелок» первой степени. Не обошлось и без замен. Некоторые персонажи довоенной страны не смогли бы вписаться в «Новый мир». Вместо пограничника появился боец Русской освободительной народной армии. Он сменил буденовку на фуражку, потерял шинель, но сохранил верную немецкую овчарку.
В общем и целом станция не очень пострадала, общая эстетика сохранилась. Все фигуры либо сидели, либо стояли на коленях.
Больше досталось бывшей «Маяковской», переименованной в «Брониславскую». Прославляла она даже не броню немецких танков, а лично руководителя коллаборационистского правительства Бронислава Каминского. Кнорозов с упоением рассказывал мне, какие шедевры монументального искусства скрыты под уродливыми подвесными щитами с изображением герба Западной Руси.
Каждый день, возвращаясь с работы или отправляясь на нее, я должен был пройти под этими черно-желтыми щитами с какими-то странными полусоветскими-полумасонскими символами. Молоток и циркуль, обернутые в традиционные для России колосья, отчего-то напоминали кокарду полицая. Спускаясь утром на эскалаторе, я мечтал когда-нибудь вместо мрачно-изысканых фашистских оттенков увидеть бело-сине-красную безвкусицу русского торгового флага, ставшего символом восточного государства. Несколько шагов по перрону, затем с разбегу втиснуться в набитый народом вагон, выскочить на «Театральной», по длинному переходу до «Охотного Ряда», осторожно, двери закрываются, следующая станция «Лубянка», «Чистые пруды», «Лермонтовская». Приехали, я выхожу на поверхность и через десять минут оказываюсь на рабочем месте.
– Доброе утро, здравствуйте.
Бондаренко беседует с Топоровым о древнеиндийских грамматических теориях. Я наливаю себе чай из термоса. Мельгун втюхивает Якобсону свои идеи о языке-посреднике. Якобсон агрессивно возражает, приплетая квантовую механику. Я выхожу покурить. В курилке Цейтлин как всегда играет с другими бездельниками в увлекательную игру: надо попытаться дать описание значений слов через некоторый набор элементарных понятий. Мой приятель Кнорозов предлагает Шаумяну играть на деньги. Я решаю возвратиться к работе. Проходя мимо кабинета Розенцвейга, сталкиваюсь с выходящим оттуда Колмогоровым.
– А, это вы. В университете проблем нет?
– Спасибо, все хорошо.
– Над чем работаете?
– Теоретико-информационные модели поэтического творчества.
– Любопытно, а конкретней?
– Вычисляю энтропию выбранного языка исходя из информационной емкости, то есть количества разных мыслей, которые могут быть изложены в тексте определенной длины, – перевожу дух. – А также исходя из гибкости языка, то есть количества равноценных способов изложения одного и того же содержания. – Интересно, продолжайте развиваться.
Я кланяюсь. Шифровальщик Шеворошкин хихикает. Незаметно наступает время обеда. В столовой обсуждают Барта и абсурдистский театр. Богатырёв пытается устроить небольшое представление, шумно двигает стулья.
Ближе к вечеру снова разгорается спор между синими физиками-алхимиками и оранжевыми каббалистами-лингвистами. Делим поэтику и кибернетику. Спор переходит в ругань. Больше всех свирепствуют Бондаренко с Вейсбергом, уже всех достали своим «восприятием цвета». Левин возражает, цитируя «Что такое жизнь с точки зрения физики?» Шредингера. – Ты бы еще Гейзенберга вспомнил, – укоряет Бондаренко.
Собирают деньги. Мы с Ловцовым идем за выпивкой.
Так чудесно летят дни. Приближается зима. Однажды в лаборатории появляется Лия. Лия Ермакова. Сейчас я мучаюсь мыслью, что больше ее не увижу. Но я мог бы ее вообще не встретить, и это было бы хуже.
Мы повстречались 16 октября 1966 года, ранним утром.
В лаборатории никого. – Прошу прощения, где здесь сто девятый кабинет? – Сто девятый? А вы что же, к нам на работу пришли устраиваться? – Да. Это плохо? – Почему плохо… Наоборот.
Так это началось.
* * *Мы решили пожениться в декабре. Лия имела собственную квартиру в Черемушках, и я переехал туда.
Каким бы грязным ни был московский центр, он все равно во сто раз лучше районов новостроек. Как можно сравнить вечернюю прогулку, пусть по замусоренному, но Тверскому бульвару от Пушкинской площади к памятнику Тимирязеву с поездкой на воняющем топливом автобусе от метро мимо пустырей и свалок к своему микрорайону!
С другой стороны, отдельная квартира, – это значительно лучше, чем комната в забитом людьми общежитии в Козицком.
Квартира досталась Лии от деда. Впервые увидев фотографию черноусого предка моей невесты и услышав его историю, я лишь слегка удивился неожиданным совпадениям.
Мне казалось забавным, что покойный владелец квартиры, оставивший такое прекрасное по московским меркам наследство внучке, оказывается, донской казак, участник Гражданской войны, повоевавший и за белых, и за красных. Кстати, воевал он именно в тех местах, где я ремонтировал казачьи танки, отбывая службу в армии.
Но куда удивительнее было другое: как раз в те длинные осенние вечера я зачитывался романом «Тихий Дон».