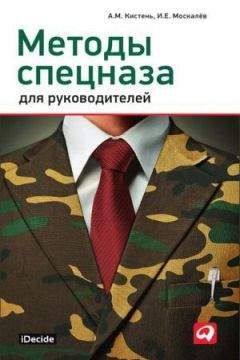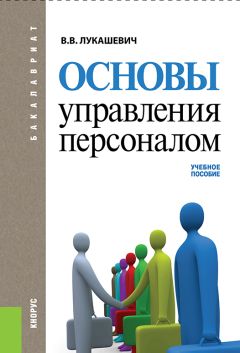Надежда Попова - Ведущий в погибель.
— Не возражу, — отозвался он согласно. — Лгать не стану. Я оставляю как вариант любой исход событий в такой ситуации, но — следует признать, особенной терпеливости в этом смысле за мною прежде не замечалось. В академии — я ведь чрезмерным миролюбием и соблюдением правил не грешил, а потому побывал всюду, и на скамье под розгами, и во дворе под плетью… Когда ты знаешь, что тебе полагается десяток горячих — достаточно сжать зубы и терпеть, и это довольно легко, потому что знаешь, когда все закончится. А в некоторых случаях наставники поступали образом довольно скверным. К примеру, когда курсант не нарушает режим или брякает скабрезную шуточку о Деве Марии, а, скажем, изобьет того, кто слабее, пытаясь таким образом утвердиться; тогда главное не сама кара — главное сломать такого морально, дабы у него не осталось гонору ломать других. Вот и я однажды обрел подобное внушение — не десять ударов, не двадцать, просто-напросто до первого крика. Собственно, можно этот самый крик издать при первом же ударе, и наказанию конец… Но гордость… а репутация среди сокурсников… Мне было тринадцать, я еще сохранил остатки былой заносчивости и шел с уверенностью, что буду держаться до потери сознания.
— И как? — с интересом осведомился тот; Курт усмехнулся:
— Заорал на третьем десятке; тамошний exsecutor свое дело знал. Но правды ради следует заметить, что за мной — рекорд.
— Однако же на одной гордости далеко не уедешь, — заметил Хауэр наставительно. — Ты, как и все, пытался победить боль, а я с ней подружился, втерся в доверие и гнусно предал. Разумеется, я не всесилен, и если взяться за меня всерьез, никакие мои ухищрения мне не помогут, однако я убежден, что возможно все. Возможно взяться рукой за раскаленный металл и не просто не ощутить боли, но и не оставить на коже следов; и, уж простите за ересь, майстер инквизитор, ни Божий суд, ни дьявольское вмешательство здесь никаким боком. Все зависит от самого человека, от его воли; я еще не понял, как этого добиться, но уверен, что — и это можно.
— Что человек все может? — уточнил он с улыбкой и для самого себя неожиданно спросил: — Как вы попали в Конгрегацию?
— Не заговаривай мне зубы, Гессе, — посерьезнел тот, кивнув на пляшущий над восковым столбиком огонек. — Протяни руку и затуши треклятую свечку.
… — Нет.
— Согласен, я не знаю, каково это, — вздохнул Хауэр устало, медленно поведя ладонью над свечой и, ненадолго задержав ее почти в самом пламени, убрал, отирая копоть с кожи. — Обжигался, как все люди — о горячую посуду, об уголь в костре, о кочергу, но такого, как ты, не переживал. Это верно. Понимаю, что у всех свои страхи. Кто-то боится мышей, кто-то змей… Девки, в основном.
— Если это — попытка ударить по самолюбию, — предупредил Курт кисло, — понапрасну стараетесь. Я проделывал это сам — не раз. Помогает слабо.
— Слабо? — уточнил тот. — Выходит, нельзя сказать, что не помогает вовсе? Возьми, стало быть, свое самолюбие на вооружение, возможно, оно поспособствует?.. Знаешь, Гессе, когда я начал читать твою сопроводиловку, я стал подумывать, хотя этого мне поручено не было, отвадить тебя от этой блажи, и мне даже показалось, что я знаю, как это сделать. Клин вышибают клином…
— Уже пытались, — вымученно усмехнулся он. — Не сказать, что стало хуже, но и не лучше.
— Когда дочитал, — кивнул тот на его слова, — понял, что такой метод не годится. Хотя, я так мыслю, если пару раз в неделю запирать тебя в горящем доме, спустя полгода ты бояться попросту замаешься, отчего и перестанешь. Правда, существует вероятность и того, что, в конце концов, рехнешься. Это было бы досадно… Чего ты боишься, Гессе? Боли? Чушь; судя по тому, что я знаю, тебя не раз резали, ты умудрился словить пару стрел — так что же? Ведь ты не начал бояться стычек, не прячешься под стол при виде арбалета? Ты не боишься огня; ты его ненавидишь. Как противника, который сбил тебя с ног, отнял оружие, приставил клинок к горлу и — не стал убивать… — на мгновение Хауэр умолк, глядя на него сквозь прищур, и кивнул: — Ага. Я попал в точку… Ну, Бог с этим. Разбираться в твоей душе должен не я, а отец Бенедикт, самовольно же предпринимать попытки целительства я не могу — если с твоим умственным или душевным состоянием после моих препараций и впрямь станет неладно, с меня живого шкуру стянут и прибьют ее все у того же отца Бенедикта на стене. Я дал тебе мысль, обдумай ее, коли есть желание; более я не стану на тебя давить. Вот только покажу тебе еще один фокус… Что ты делаешь с противником, когда не хочешь или опасаешься приближаться к нему? Достаешь арбалет. Победить этого врага тоже возможно, не входя с ним в соприкосновение. Смотри. Так погасить огонь сможешь даже ты; можно сказать, способ нарочно для тебя.
От стола со свечой Хауэр встал на расстоянии трех шагов, глядя на дрожащий огонек пристально, точно и впрямь арбалетчик на укрепленную перед ним мишень; правая ладонь поджалась в кулак, тут же расслабившись снова, и тот повторил — тихо и серьезно:
— Смотри на свечу.
Инструктор выбросил правую руку вперед отчетливым, коротким движением, словно оттолкнув от себя ладонью тяжелый кувшин с зерном; до маленького трепещущего язычка пламени от этой ладони, будто упершейся в невидимую стену, оставалось еще локтя полтора, а потому в первые мгновения подумалось, что это попросту игра теней или обман утомившегося за прошедший день зрения. Миг прошел в тишине, прошел второй, и лишь тогда Курт осознал, что свеча и в самом деле погасла.
— Это не волшба, — снова заговорил Хауэр под его потрясенное молчание. — У меня нет никаких врожденных способностей, я ничем не одарен свыше, я обыкновенный человек, такой же, как тысячи других, обитающих в Германии. Этого я достиг сам. Сможешь и ты.
— Как вы это сделали? — сумел он выговорить не сразу. — Если не способность, если не… Как?
— Мы привыкли к тому, что воздух — нечто невесомое, бесплотное, нечто, чего и вовсе нет; однако же, птицы бьют по нему крыльями, отталкиваются от него — и подымаются выше. Взгляни, как падают листья. Словно сквозь воду. Снизу их подталкивает воздух, в который они упираются своей поверхностью. Вспомни парус — будь воздух так бесплотен, был бы от паруса толк? Вспомни ветер, валящий целые деревья и сносящий крыши с жилищ. Вспомни еще одно: человек проходит мимо свечи, проходит излишне быстро — и от движения воздуха, созданного его телом, огонь гаснет. Я делаю это одним ударом.
— Снова ваше пресловутое дыхание?
— Оно самое, потешаться здесь не над чем. Озарение, Гессе. Озарение — и я знаю, как, с какой силой, насколько резко ударить рукой воздух, чтобы он убил огонь вместо меня. Не рассчитываю, не продумываю, я просто начинаю знать, чувствовать, как это сделать — так же, как давно перестал отсчитывать дыхание во время бега, как ты не задумываешься, садясь на табурет — тело само знает, как согнуть колени, как примостить твою ленивую задницу. Разумеется, это — несколько сложнее, но с каждым разом дается все проще.
— Руководство в курсе ваших изысканий? — уточнил он тихо, и тот рассмеялся, снова усевшись за стол напротив:
— Инквизитор…
… — Я родом из провинциального городишки. С детства мечтал о подвигах, а повзрослев, сдуру записался в городскую стражу и все продолжал мечтать. Все нормальные люди, отпахав свое, шли спать или пить, или есть, на худой конец, а я — на плац. Отрабатывал те два удара и три замаха, что нам всем показали в начале нашего славного служения родному городу; вот только никому этот город не сдался — на нас даже соседские владетели не смотрели. Стражу держали, потому что положено, ну, и на всякий случай… Разумеется, и ни одного кулачного боя не пропускал. В противниках недостатка не было: кто ж откажется на законном основании набить морду стражнику?.. И снова на плац… Надо мною, ясное дело, смеялись, особенно когда я начал извращаться и выдумывать собственные приемы — позаковыристей, помудреней, да еще чтобы и покрасивее; смеялись, пока я не пригласил одного из таких шутников доказать, что он имеет право смеяться. Помимо всего прочего, надо ведь было на ком-то опробовать все, что насочинял… Словом, более не насмехались в открытую, даже в некотором роде зауважали, однако же, все равно продолжали крутить пальцем у виска. И вот однажды — мне тогда было, наверное, сколько тебе сейчас — в нашем городе появился инквизитор. Вечером нас собрали и сообщили, что в нашем тихом омуте проездом задержался скрывающийся от розыска преступник, да не простой, а самый что ни на есть настоящий оборотень. Нас, от страха готовых выть не хуже этого оборотня, выставили в оцепление вокруг квартала, в котором, по сведениям приезжего инквизитора, он обосновался; нам было велено стоять и не рыпаться, вмешиваться только в самом крайнем случае, а главное — подохнуть, но преступника взять живым. Тому, кто посмеет его смертельно повредить, тот следователь посулил множество интересных развлечений, отчего у нас окончательно развеялись последние остатки храбрости… Парня загоняли — буквально, как зверя загоняют на охоте, и так сложилось, что выгнали прямиком туда, где стоял я. — Хауэр усмехнулся. — «Не вмешиваться»… Я вовсе примерз к месту. От того, чтобы удрать, я был далек, но столь же мало желания имел и для того, чтобы ввязаться в потасовку. Он не оборачивался, дрался в нормальном человечьем виде, но — как! Они с тем инквизитором схлестнулись прямо передо мною, в десяти шагах, и мне было видно все. Такого, Гессе, я не видел еще никогда — да и откуда было? Провинциальный солдафон из задристанного гарнизона задристанной дыры; что я вообще знал, кроме пьяных драк по вечерам?.. После этого я не смог заснуть. Многие из нашего оцепления в ту ночь спали плохо, вот только я не вскакивал с криками — я просто не спал, смотрел в потолок, проворачивал в мозгах то, что видел, и понимал, что я с моими потугами на плацу — вша… Жгли этого парня тоже у нас, перевозка была слишком опасной; мы узнали, что он тем вечером успел перебить не то четверых, не то шестерых из тех, кто прибыл вместе с инквизитором, а взять для его охраны в пути кого-то из нас — это даже не анекдот. Разумеется, я пошел смотреть. Тебе доводилось уже выносить приговоры, доводилось наблюдать это не раз, скажи — видел тех, кто горел молча? Нет? А я — видел. Молча, Гессе. Ни звука. Он даже не пытался вырваться. Не дернулся ни разу. Это было жутко и завораживающе. Словно изваяние… Народ расходился так же молчком, инквизитор был явно недоволен, а я — я был сражен. Возможно, он и был оборотнем, возможно, он был и сильнее, и быстрее, но у него те же кости, нервы, плоть; должно же и ему быть больно, а тем паче — в человеческом обличье! Значит, было. Значит, боль он просто переносил. Значит, это возможно. И тем вечером, в бою, которому я был свидетелем, он хватанул инквизитора по руке клинком — до кости и почти вдоль, почти срезав, а тот продолжал делать, что делал. Уж тот-то точно человек, обыкновенный, такой же, как все, как я. Ведь когда-то и он был, как я, ничего не умел, ничего не знал, когда-то он был мальцом, хнычущим от царапины, оставленной соседской кошкой! Ведь он не родился бойцом, плюющим на раны, на боль, на кровь? Ведь он таким стал. Это лишило меня остатков покоя. Значит, человек может это. Может все. Будучи никем, стать великим… да кем угодно. Я хотел быть великим бойцом. Как те двое. И начал им становиться. Сейчас в подробности лезть не стану, просто скажу, что парился я над этим ежемесячно, ежедневно и ежечасно, пробовал все, любую бредовую теорию, возникающую в моем мозгу, и добился в конце концов кое-каких результатов. Однажды вечером, было это года два спустя после тех событий, спьяну я вздумал поделиться с собратьями по оружию своими грандиозными думами относительно величия человеческого. Показал вот этот самый фокус с иглой, после чего пустился в долгие рассуждения о том, что человек может добиться всего, чего только вздумает пожелать, и как пример имел глупость упомянуть того самого оборотня… Откровенно говоря, сегодня я не вспомню, что я тогда нес. Да я уже и наутро не помнил; а кто-то из моих собутыльников запомнил сверх меры хорошо, и примерно через недельку в наш городок снова нагрянул инквизитор — теперь уже по мою душу. Попервоначалу я перетрусил. Все эти перемены в Конгрегации, они ведь во дни моей юности только-только завязались, и не всегда и не везде можно было уповать на то, что тебе попадется не говнюк старой закалки. Но мне повезло; инквизитор оказался тот самый, что пару лет назад, собственно говоря, и подвиг меня на мои изыскания, посему столковались мы быстро. Уехали мы вместе следующим же утром. Мечта сбывалась — я выбрался из этой ямы с мышами, которая была моим домом… Только меня не бросили на борьбу с оборотнями и стригами, как я полагал по наивности. Провели краткий курс по ликвидации безграмотности в области «малефики и их разновидности», месяц тренировки со старшим инструктором и — долгая нудная работа по отлову этих самых малефиков. Мне никто не потрудился растолковать, что произошедшее в нашем городе — редкость, исключение, что твари не ходят табунами по всей Империи… Я злился, что моих достоинств не ценят, и оные достоинства старался усовершенствовать — быть может, тогда оценят и заметят… Заметили. Когда я показал выходку со свечкой, у руководства едва не приключился сердечный приступ. Не знаю, не видел, но предположить могу, что буза наверху началась немалая. Как только меня ни допрашивали, о чем только ни говорили, чего только ни предполагали — я и подозревать не мог даже, что в богословии могут быть такие выверты и закоулки. В первую очередь мне предъявили гордыню; ну, не обвинили напрямую, но упомянули. Логика такая: поскольку я продолжал твердить, что человеку все под силу, сие можно было истолковать как самомнение, от которого до дьявольского прельщения один шаг. Я, знаешь ли, и теперь не слишком много времени провожу за науками — некогда. Чтоб не быть совсем идиотом и не позорить Конгрегацию, что-то узнал, что-то выслушал, что-то даже и прочел, но — сам понимаешь, я не философ и не мудрец; а тогда и вовсе знал лишь, что Господь — Бог наш, мы — дети Его, а из Евангелия запомнил только одно: «Если вы будете иметь веру с горчичное зерно и скажете горе сей: „перейди отсюда туда“, и она перейдет; и ничего не будет невозможного для вас». Там же не сказано, что Господь эту гору передвинет или кто-то еще, чья-то сила, так? сказано — «она перейдет». Только имей веру. Уверенность попросту — в том, что это получится. И не будет невозможного для вас. То есть — что? Ясно сказано, что человек может всё, если только оставит сомнения. Да Создателем и должно быть в нас это заложено: где живем-то? На земле, для жизни опасной, в тяжелых условиях, среди врагов зримых и невидимых, а стало быть, арсенал, которым мы снабжены, чего только не содержит, надо лишь покопаться в нем как следует, найти, что нужно, и научиться с этим обращаться… В общем, говоря откровенно, все эти выкладки — не мои измышления. Просто, когда обсуждение наверху закончилось, что-то подобное они и вывели; ну, другими словами, само собою. Уж как суть запомнил, так и излагаю. Надо думать, наши мыслители навернули и еще что-то; этого уже не знаю. А поскольку теория это теория, подтвердить это дело решили практикой. Ты об этом монастыре знаешь, что к чему — в курсе, посему секрета никакого не выдам… Abyssus, верно. Где подвизается братия, чьи молитвы прикрывали тебя на том деле в Кельне. Меня попросту посадили среди них; братия заняла круговую оборону, а я в центре повторил свое представление со свечкой. Это, собственно, и подтвердило тот факт, что бесами дарованных способностей во мне ноль. Зато вполне человеческих старший инструктор нашел массу, после чего мои мечты и начали сбываться всецело. Зондергруппа, потом — шарфюрер[4]… Вот только своих экспериментов я не оставил. Когда вот на этом самом плацу вздумал поделиться с сослуживцами кое-чем из моего опыта, старший инструктор написал запрос и — с тех пор на оперативную работу меня более не выпускали. Теперь старший инструктор — я… Отдышался? Бегом.