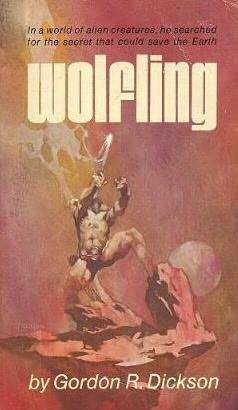Елена Хаецкая - Ульфила
Когда он оступился, один из его спутников протянул руку, чтобы поддержать его, и почувствовал, что ладонь стала мокрой.
– Ты не ранен? – спросил солдат. У него был чистый латинский выговор, и Валент вдруг ощутил к нему доверие.
– Не знаю.
– Точно, ты ранен. Это кровь у тебя.
– Странно, – сказал Валент, – мне совсем не больно.
– Скоро заболит, – уверенно произнес солдат и вздохнул. – Так заболит, зверем взвоешь. Куда они тебя, в бок?
Впереди крикнули, что спасение близко – здесь деревня. Утром, проходя по этой дороге во главе великолепной армии, Валент не заметил никакой деревни. Что ему, повелителю половины цивилизованного мира, какая-то деревушка? Сейчас же она казалась самым желанным, самым прекрасным местом на земле.
В темноте немногое можно разглядеть; сельчане услышали шум, лязг оружия, голоса и предположили вторжение разбойников. Слышно было, как кто-то пробежал от дома к дому. И вдруг большие вилы уперлись в грудь идущему впереди легионеру.
– Эй, – вымолвил тот, останавливаясь.
– Кто идет? – спросил голос из ночного мрака. Крестьянин не боялся; он успел прикинуть количество пришельцев; их было немного. Меньше, чем жителей деревни. К тому же, чужаки плохо знали местность.
– Валент, – ответил солдат.
Он имел в виду – «римская армия», но назвал имя императора, потому что так было короче.
Валент рядом с ним вздрогнул.
– С нами раненые, – продолжал тот же солдат.
Крестьянин помолчал, посопел. Слышно было, как он задумчиво чухается. Потом сказал:
– Днем, вроде, битва была.
– Да.
– Кто победил-то?
– Варвары.
Крестьянин звучно плюнул.
– Стало быть, они действительно непобедимы. А может быть, Бог за них, вот и все объяснение. – И крикнул в темноту: – Это наши притащились. Проклятые вези побили их так, что теперь и от земли не видать.
Римский солдат – тот, с чистым выговором, – схватил крестьянина за плечо.
– Есть у вас какая-нибудь лекарка? Мой товарищ истекает кровью.
Крестьянин недовольно высвободился. Показал большой дом, возле которого стояли.
– Есть одна баба. Если только ее муж позволит.
Подошли к дому, у дверей кричать начали. Долго кричали. Наконец отворили им, и показался широкоплечий детина, бородища как сноп, волосья как стог, глаза как красные угли. Чего орете?
Хоть свет увидели (он лампу глиняную держал) – и то радость в этом кромешном мраке.
– Хозяйка твоя, нам сказали, ловко раны лечит.
Оглядел гостей своих крестьянин тот, лампой подвигал. Солдаты перед ним все на одно лицо, от пыли седые, от усталости серые. Один совсем плох, за бок держится, вот-вот упадет. Кровь по ноге сползает на сапог.
Повернув голову, закричал хозяин в сонную тишину дома:
– Меланья!
Была эта Меланья смуглой и проворной, малого роста. Из Александрии Египетской привез ее муж, когда служил в легионах. Лопотала больше по-своему, глазами огромными в полумраке блестела.
Повытаскивала из закутков разные травки, повязки, настойки, примочки, кривые костяные иглы. Здоровых солдат спать вповалку уложила, напоив их чем-то горьким, от чего горячо в животе сделалось. Раненых перевязала и сама села рядом. Сложила на коленях маленькие черные руки.
Она была очень терпелива, эта Меланья. Могла ночь напролет просидеть у постели больного, покачиваясь и бубня себе под нос.
Ночь тянулась и тянулась, и темноте не было конца, как не было конца испепеляющему дню двадцать третье августа.
Валент провалился в тяжелый сон, и было ему в этом сне очень жарко, и снова душили его пыль и копоть готских костров.
«Бог! – кричал он в этом сне. – Почему ты не помог мне, Бог? Ведь я старался быть хорошим! Ведь я был хорошим!»
И грозовая туча над головой ответила раскатом грома: «Недостаточно хорошим, Валент, недостаточно».
И маленькая черная ладошка стирала с его лба пот, тоненькие черные пальцы, смоченные в вине, обводили его губы, чтобы сделать их влажными. И в полусне сосал Валент эти пальцы, как дитя сосет материнские пальцы.
В середине ночи ворвались в деревню аланы и вези. С визгом, с воплями, с горящими факелами. Хохот, гром копыт, треск выбитых ворот!..
С воем выбегали из домов женщины, прижимая к себе детей. Двоих или троих мужчин, заподозрив у них оружие, аланы убили. После, согнав пленных в кучу, грабить принялись. Выпотрошенные дома поджигали.
Все остановиться, видно, не могли после того, как закончилась битва. Все зуд в руках не унимался.
Меланьин муж дом запер. Если обнаружат аланы солдат наверху, плохо им всем придется. Поднялся туда, где жена его раненых сторожила, и заговорил с нею на той смеси наречий, которую только они двое и понимали:
– Бежать нам с тобой нужно, жена. Бросай этих людей. Ушли от смерти, а она сама за ними пришла.
Взял ее за руку, повел за собой. И выбрались через оконце, а там тайной тропой в лес ушли.
Вези запертую дверь пнули раз, толкнули другой, а она не поддавалась. Ломать не стали, лень. От награбленного уже оси тележные гнутся. Не хотят добром выходить – пусть в доме своем навсегда остаются. В оконце факел бросили горящий. И коней повернули.
За спиной у вези ярко осветило дорогу зарево. Два или три легионера успели сигануть в то окно, через которое Меланья с мужем ушли; остальные же сил не имели и погибли в пламени.
* * *В ноябре зарядили дожди. Небеса словно пытались смыть следы крови с больной земли, остудить горячечные белокурые головы варваров. Хлюпая по раскисшим дорогам, потянулись телеги на северо-запад Империи.
Дерзкая осада Константинополя, куда сгоряча бросились победители прямо из-под Адрианополя, закончилась пшиком. Да и не нужен был варварам град Константинов.
Аланы с остроготами остались в Паннонии, в долине Дравы. Говорили потом, будто епископ города Мурса Амантий обратил их в христианскую веру; но проверять никто не брался, сам же Амантий о том никаких свидетельств не оставил.
Фритигерновы вези пошли еще севернее и зазимовали в предгорьях Юлийских Альп, в городах Эмона и Навпорт, где расположились совершенно по-хозяйски.
Сам Фритигерн устроился в Эмоне, в доме зажиточного римлянина Флавия Евгения, бесцеремонно вытеснив хозяина в верхние этажи. Семейство Евгения держалось поначалу тише воды ниже травы – шутка сказать, такая беда на голову свалилась! – но потом пообвыклось. И оказалось, что вблизи не так уж и страшен князь Фритигерн. С мужчинами был сдержан и вежлив; ромейских женщин не трогал, когда нужно, своих доставало.
Правда, служанкой обзавелся такой, что дочь Евгения тихо плевалась у нее за спиной. Но варвар – он и есть варвар, даром что князь; что ему перечить?
Эту служанку подобрал грозный Фритигерн на улице зимней ночью – мерзла в исподней рубахе, босая, пританцовывая на ступеньках храма. Ночь была на исходе; на востоке занималось понемногу утро. Снег то переставал, то снова принимался валить из тяжелых облаков.
Возвращался князь Фритигерн домой с богатырской попойки, весел был и добродушен. Снег сыпался на его длинные волосы, на плечи, мокрые хлопья повисали на ресницах, смотреть мешали. И все-таки разглядел он нечто странное возле храма. Остановился, проморгался. Нет, не чудится. Точно. Полуголая девица.
– Ой, – сказал князь, дурачась. – Дай же мне руку, девушка, чтобы поверил.
– Чему? – сипло спросила девица.
– Да ты и вправду тут стоишь?
– Ну, – огрызнулась девица.
– Так это, вроде бы, храм веры Христовой.
– Вот именно.
Нашла место, вот дура!.. Фритигерн засмеялся.
Она с ненавистью смотрела, как он смеется. Здоровый, свободный человек. Мужчина.
– Ну, пойдем со мной, – сказал Фритигерн добродушно. – Мне как раз нужна такая, как ты.
– Я не потаскуха, – просипела девица. – Гляди, не ошибись.
Но Фритигерн, не слушая, уже тащил ее за собой. Только в доме разглядел свою находку как следует. Разглядел и ужаснулся. Девица была почти совершенно раздета, будто ее из постели вытащили. Худющая, все кости наружу; угловата, как табурет. Растрепанные мокрые волосы цвета соломы липнут к щекам и тощей спине. И беременная.
Фритигерн не сдержался – охнул. Повалился на постель как бы в бессилии. Девица, злющая, перед ним стояла, выпятив живот, еще более заметный под сырой одеждой.
– Так ты не потаскушка?
– Я же говорила, – хриплым разбойничьим шепотом сказала она.
– А что ты делала на улице?
– Священника ждала. Меня отец из дома выгнал. – Она хлопнула себя по животу. – Из-за этого. Из-за ублюдочка моего.
– Почему же ночью, голую?
– Как заметил, так сразу и выгнал, – пояснила девица и глубоко вздохнула. Видно было, что она ничуть не осуждает своего сурового родителя. – Можно, я у тебя тут переночую? Я утром уйду.
– А хоть и насовсем оставайся, – неожиданно сказал князь. Эта неунывающая девица чем-то глянулась ему. К тому же он был пьян. – Обрюхатил-то тебя кто?