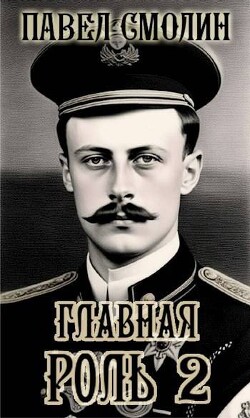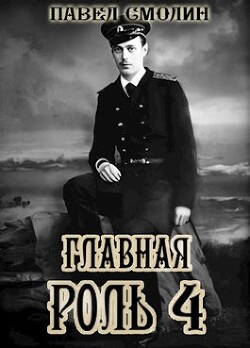Главная роль 3 (СИ) - Смолин Павел
Первый час «настоящего разговора» был посвящен набившей уже оскомину, рискующей стать вечной теме «как русский цесаревич индийского беса изгонял». Толстой — не Император с Императрицею, и обесценить свой «подвиг» в его глазах отрицанием демонической сущности я себе позволить не мог — пришлось рассказывать то же, что и всей Империи. Граф своею дотошностью мог бы устыдить львиную долю следователей, постоянно задавая частично повторяющиеся, но переформулированные вопросы и выпытывая каждую мелочь: что именно горело в том подвале, какие оттенки запахов примешивались к керосину, где стоял я, что именно чувствовал от молитв старообрядцев, традиционалистов и иностранцев. Не повторяй я столько раз эту историю, я бы точно споткнулся и был признан графом врунишкой. Что ж, история сослагательного наклонения не терпит, а потому допрос мне выдержать удалось с честью. Выслушав последний мой ответ, Толстой откинулся на спинку кресла и прикрыл глаза. Морщины на его лице словно разгладились, выражая свалившийся с плеч старенького гения груз: тяжело истово верующему человеку давались вражда с РПЦ и попытки вычленить из канонических текстов единую и неоспоримую истину.
— Слава богу! — прошептал он, и из-под закрытого века скатилась слезинка. — Не лишились мы, грешные, благодати и милости Его, — перекрестился.
Я на всякий случай тоже перекрестился — а ну как не до конца глаза закрыл, следит? Теперь нужно закрепить и преумножить успех, показав, НАСКОЛЬКО как минимум я «не лишился».
— Не лишились! — заявил я, поднявшись с кресла и взяв со стола перочинный ножик. — Мир стоит на грани последней битвы света и тьмы, Лев Николаевич. Грань тонка и нечетка — по сердцам людским проходит, незримо, но вполне ощутимо. Мною ощутимо.
Толстой открыл покрасневшие от слез глаза и внимательно посмотрел на ножик.
— Понимаю — гордынею от моих слов разит за версту, — продолжил я. — К счастью, Господь в милости своей не оставил меня в трудный момент — с самой гибели Николая направлял он меня, подавал знаки, вложил в мою голову неведомые доселе знания и подсказывал нужные слова. Понимаю, что такого наговорить может любой юродивый или шарлатан таковым прикидывающийся. Господь человеческое неверие и слепоту учел, укрепив тело мое так, чтобы мог я сомневающихся да в вере пошатнувшихся на путь истинный наставить и сделать опорою своей. Смотрите.
И я уже привычно, но оттого не менее неприятно — больно, блин! — надрезал ладонь, уронив пару капель крови и дав ране затянуться на глазах старенького классика.
Щеки Льва Николаевича начали бледнеть. Выронив трость, он схватился за грудь и стал хватать воздух ртом. Твою мать!!!
— Нитроглицерина и медика, срочно!!! — взревел я.
Нитроглицерин «сердечникам» в эти времена уже прописывают — не всем и не везде, но элита у нас часто пожилая, при Дворе ее много, и относительно новое, но вполне известное лекарство — в Америке даже в разных дозировках уже выпуск наладили — в распоряжении лейб-медиков просто обязано найтись.
За дверью раздался торопливый удаляющийся топот, которому вторил крик: «Медика! Нитроглицерин!». Подскочив к Толстому, предельно напуганный — я же себе до конца своих дней этого не прощу! — я бережно подхватил его на руки и понес на диван:
— Держитесь, Лев Николаевич! Как мы без вас будем-то?
Уложив графа, я пристроил его голову на валик и рванул рубаху, чтобы классику было легче дышать.
— Только бы не инфаркт, только бы не инфаркт… — бормоча себе под нос мантру, добежал до окна и открыл створки, дав свежему воздуху наполнить кабинет.
Вернувшись к продолжающему жадно глотать воздух, страшно бледному Толстому, взял его за запястье — пульс неровный, но хорошо ощутимый. Не инфаркт еще — стенокардия. Авось выкарабкается. Эта мысль помогла мне взять себя в руки, взгляд скользнул по груди Льва Николаевича. А крестика-то нет! Шанс!
— Что же вы крестик-то сняли, Лев Николаевич, — ласково пожурил я его и снял крест собственный. — Негоже доброму христианину аки язычнику без креста ходить, — аккуратно надел на Толстого.
Взяв графа за руку, опустился на колени перед диваном и принялся читать молитву за здравие. Секунд десять спустя граф очень тихо, но вполне разборчиво подхватил — очень хороший знак, стенокардия сходит на нет, а при инфаркте или инсульте речь стала бы неразборчивой.
К моменту, когда пропотевший от неожиданного спринта лейб-медик влетел в кабинет, сходу сунув графу под язык таблетку нитроглицерина, кризис уже в целом миновал, и мы закончили молитву.
— Георгий… — сипло попытался начать разговор Толстой.
— Тише, Лев Николаевич, — попросил я, улыбнувшись и рукавом вытерев выступившие слезы. — Напугали вы меня.
Доктор тем временем пощупал пульс, одобрительно покивал на открытое окно и аккуратно переложил Толстого пониже, сунув ему под шею принесенный с собою валик, пояснив для меня:
— Высоковато, Ваше Императорское Высочество. Так лучше будет.
— Спасибо, Василий Васильевич, — поблагодарил я. — Спасибо, Никита, — поблагодарил лейб-гвардейца, который бегал за медиком.
Козырнув, тот поклонился и покинул кабинет.
— Стенокардия, — вынес диагноз Василий Васильевич. — Вам нужен покой, Лев Николаевич. Хотя бы сегодня я рекомендую вам воздержаться от беспокоящих разговоров и путешествий.
— Правильно, — одобрил я. — Переночуйте сегодня у нас, Лев Николаевич. Завтрашним вечером я навещу вас, и, если вам станет легче, мы договорим.
— Благодарю, Георгий Александрович, — просипел граф.
— Василий Васильевич, я уверен, что вы окажете светочу мировой литературы должный уход, — замаскировал я избыточный приказ, чтобы не обижать доктора.
— Сделаем все, что в наших силах, Ваше Императорское Высочество, — отвесил он легкий поклон.
Опасно было.
Александр окреп, и его перенесли в спальню побольше. Кровать Императора окружали столы, за которыми сидели чиновники под предводительством министра финансов Ивана Алексеевича Вышнеградского, седоволосого шевелюрой и бакенбардами мужика с выбритым подбородком и в круглых очках. Царь работает, и я не пожалел, что нагрянул сюда без предупреждения. Рядом с Вышнеградским сидел «товарищ министра» — так в эти времена называют заместителя — Федор Густавович Тёрнер, красующийся пышными, спаянными с бакенбардами, полуседыми усами. Солидный такой!
При моем появлении народ подскочил, и я с улыбкой махнул им рукой:
— Продолжайте, господа. Добрый вечер, Ваше Величество. Иван Алексеевич, — удостоил поклонившегося министра персональным приветствием.
Под улыбку Александра я занял свободный стул, и чиновник продолжил:
— Недоимки за кирпичные заводы Симонова Егора Михайловича за 1890-й год составили 625 рублей совокупно. Обещался выплатить не позднее следующего года. Недоимки за кирпичные заводы Шигаевой Елизаветы Николаевны за тот же год — 74 рубля 8 копеек. За заводы Шигаева Маркела Михайловича — 138 рублей и 85 копеек…
— Они родственники? — влез я.
Докладчик замолчал и озадаченно посмотрел на начальство. Иван Алексеевич посмотрел на него в ответ, и моментально пропотевший чиновник, торопливо пролистав бумаги, подтвердил:
— Состоят в браке. Виноват, Ваше Императорское Высочество — точных сведений предоставить сейчас я не могу, но позволю себе предположить, что кирпичные заводы стали приданным за Елизаветой Николаевной.
Логично.
— Если бы у этих заводов был один владелец, а не двое, казна получила бы больше податей? — спросил я.
Мне можно — я же цесаревич начинающий, необученный.
Александр пошевелил усами и не стал влезать, предоставив отдуваться министру.
— Это очень хороший вопрос, Ваше Императорское Высочество, — отвесил он мне положенный по этикету комплимент. — Ответить на него однозначно сейчас не представляется возможным. С одной стороны — и Елизавета Николаевна, и Маркел Михайлович выплачивают патентные сборы за право заниматься производством. С другой — совокупный оборот трех заводов больше двух и одного. Ежели на то будет ваша воля, мы предоставим вам точные расчеты не далее, чем завтра.