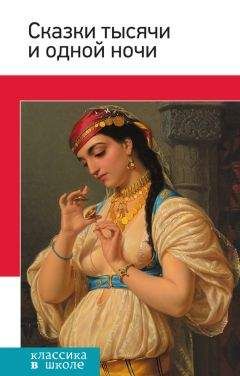Алекс Гарридо - Любимая игрушка судьбы
— Скоро жди! Готовь приданое! — и припал к золотому пламени, бившемуся вдоль шеи коня.
Глава 13
Истомленные зноем, мучительно благоухали розы. Вяло повевал ветерок, распространяя волны аромата по всему покою.
Царь полулежал, откинувшись на подушки, наслаждаясь прохладой и тишиной, нарушаемой только меланхолическим журчанием фонтана. Там, в саду, уже удлинялись тени, приближался блаженный час, когда полдневная жара уступает вечерней свежести.
Закрытые глаза и ровное дыхание могли бы ввести в заблуждение, но Акамие знал, что дремота еще не овладела царем.
Пот высыхал на лице, на теле. Если бы царь спал, и рука его не лежала бы на спине Акамие, можно было бы выйти, умыться, поплескаться в фонтане. Но сейчас нельзя было этого сделать, и Акамие лежал смирно, поджимая живот, чтобы не впивались складки покрывала и нити жемчуга, составлявшие все его одеяние.
Он лежал смирно и улыбался тихо-тихо, удивляясь, как Судьба преображает жизнь, не меняя ее обстоятельств. Теперь повелитель приходил под вечер, и только уже в темноте уходил на балкон или в опочивальню составить свой ежедневный свиток, но вскоре звал к себе Акамие. Как сказал тот, кто сказал: «Не встретил вечерней зари, утренней зари не встретил я без тебя.»
Спали и бодрствовали они теперь в одно время. Пока царь занимался делами управления, Акамие проводил время в беседах с учителем Дадуни и чтении, только послеобеденные часы, когда царь отдыхал в саду с приближенными, и время вечернего сидения царя были добавлены для Акамие ко сну. Никакая краска ведь не скроет теней, которые оставляет на лице усталость и изнеможение.
Еще другое изменилось.
Акамие был искусен и слыл на ночной половине знатоком нежной науки. Царь был не менее сведущ в ней, но в этом и заключалось несчастье: даже внутри себя не мог укрыться наложник от своей участи и был принужден разделять с господином наслаждение, которого не хотел. Так раньше полагал Акамие и не мыслил, что может быть по-другому.
Теперь они с царем складывали половинки своих знаний и искусства в одну радость на двоих, и Акамие не тяготился тем, что проводит с повелителем времени вдвое больше прежнего.
Царь провел рукой вдоль спины, щекотнул наложника пальцами.
— Чего ты хочешь? — ласково проворчал, как мурлыкают львы.
Акамие потянулся, прижался лбом к его плечу.
— Ничего не хочу. Мне хорошо.
— Нет, — веско возразил царь, — Ты не понял. О другом я спросил. Есть у тебя желание, о котором ты не осмеливаешься сказать? Скажи сейчас. За то, что ты сделал для меня сегодня, я сделаю для тебя все, о чем попросишь.
Акамие поторопился возразить:
— Я уже вознагражден твоей радостью, мой господин.
Царь прихмурил брови.
— Не говори пустых слов.
Акамие приподнялся, заглянул в лицо повелителю. Тот ждал, не открывая глаз. Акамие вздохнул.
— Ты не исполнишь моего желания.
Царь мрачно усмехнулся.
— Нет такого, что невозможно для меня. И нет такого, в чем я откажу тебе сегодня.
Акамие подумал еще с минуту, перевернулся на бок. Крепко зажмурился.
— Я хотел бы быть воином.
Тишина.
Акамие боязливо открыл глаза. На лице царя отразилось разочарование.
Переведя дух, Акамие повторил, хотя и не так решительно:
— Я хотел бы быть воином.
— Ты хотел бы быть воином… Ты хочешь стать воином?
Царь провел ладонью по его груди, по бедру. Акамие обиженно охнул, тело само покорно изогнулось под уверенной лаской господина. Рука вернулась и, едва касаясь пальцами, скользила по животу. Акамие стиснул зубы.
— Это ли твое желание? — настаивал царь.
Стать воином.
Покинуть навсегда ночную половину, расстаться с покрывалом, скакать на горячем коне, натягивать тугой лук и слушать певучий звон тетивы и дробный топот копыт, принимать открытым лицом удары сухого степного ветра или тугие струи дождя, смеяться вместе с Эртхиа, пускать коней наперегонки, пить мурра у ночного костра, быть свободным, свободным!
И никогда уже не заснуть рядом с царем и не просыпаться рядом с ним, не ласкать его, разленившегося льва, не танцевать ему томительных ночных танцев, не опускать покорно голову на его плечо, когда царь среди ночи вздумает гулять по саду с ненаглядным мальчиком на руках…
— Нет, — еле слышно выдохнул Акамие, — не хочу стать воином.
Царь стиснул рукой его бедро.
— Чего же ты хочешь?
— Хочу, чтобы ты любил меня всегда.
— Нашел, о чем просить! — недовольно откликнулся царь, поглаживая следы своих пальцев на тонкой коже. — Это и так твое.
И открыл глаза.
Так все и было, как он хотел увидеть: Акамие, весь опутаный золотисто-белыми косами и нитями жемчуга, светлый и тихий.
— Чего же ты хочешь? Назови мне твое желание. Но будь осторожен. Я спрашиваю в последний раз.
Два желания сразу пришли в голову Акамие, и он выпалил на одном дыхании:
— Когда Эртхиа вернется, прости его! — и дай свободу Ханису…
Царь не ответил ничего. Наклонив голову набок, разглядывал Акамие, как редкостную диковину. Расхохотался. И оборвал смех.
— Хорошо. Отложим это. До возвращения Эртхиа. Ты так сказал, не правда ли?
И встал с ложа.
— Ночью придешь ко мне. И больше не говори со мной об этом.
Глава 14
Утром рано, до того, как прокричали на рынке об открытии торговли, наследник Лакхаараа ан-Эртхабадр послал своего слугу с бумагой и печатью сказать, чтобы не продавали ни одного невольника выше тысячи хайри ценой, прежде чем покажут Лакхаараа.
И не продавали.
Но ни один из тех, кого в покрывалах приводили во дворец царевича до полудня или по вечерней прохладе, не остался у царевича и не подошел ему.
Наконец, слуга прибежал радостный (а господин, не находя удовлетворения своему желанию, гневался на того, кто занимался этим делом) и воскликнул:
— Мой господин! То, что отыскать было твое благородное повеление — готово! Тут у ворот купец с невольником в простом покрывале, из под которого даже не слышно звона подвесок и браслетов. Купец говорит, что если мальчика продавать с украшениями, ни у кого не хватит богатства заплатить за него.
— Сколько стоит?
— За десять тысяч не отдают.
Лакхаараа привстал со скамеечки, переглотнул.
— Ко мне с ним и с купцом.
Слуга вылетел со всех ног и привел купца, по лицу и одежде — с Южного побережья, откуда плавают купеческие корабли до всех краев земли и ходят караваны за Обширную степь, до северных лесов, богатых мехами, подобных которым нет в других местах.
За купцом двое рабов вели под руки того, что под покрывалом, и покрывало было толстым и плотным, не из шелка, а из лучшего бархата, и тянулось за невольником по земле на пять локтей.
— Доброй славы и изобилия твоему дому, долгих лет и множество сыновей тебе, благородный господин! — приветствовал купец.
— Тебе того же! — воскликнул Лакхаараа, едва сдерживая нетерпение. — Что ты прячешь под покрывалом? И разве выставляют на продажу невольника, достойного внимания, не украсив его?
— Невозможно украсить луну в небе, благородный господин. И рубины, и сверкающий алмаз — все затмит, когда в четырнадцатую ночь месяца просвечивает сквозь тонкие облака. Потому и прячу под покрывалом плотным, как слой туч в ненастье.
— Что же, — сказал Лакхаараа, — пусть ветер разгонит тучи, чтобы мы могли сговориться и сойтись в цене.
— Э, благородный господин, — сладко, с причмоком, усмехнулся купец, — десять тысяч плати, не глядя. Удивишься, что подобного ему можно купить за деньги. Твой перстень будет ему браслетом, а браслет — поясом.
— Ладно, купец, — Лакхаараа нервно зевнул, — показывай товар. Если он таков, как ты говоришь, я добавлю что-нибудь сверху. Не наследнику повелителя Хайра прослыть скупым.
— Так и я думаю, благородный господин!
Оттолкнув рабов, взявшихся было за покрывало, купец сам осторожно приподнял край, а когда Лакхаараа приподнялся и весь потянулся вперед, резко дернул. Груды бархата рухнули, вздымая облака пропахшей благовониями пыли. Пройдя сквозь них, заклубился золотыми облаками солнечный свет, текущий в открытое окно.
И Айели предстал перед Лакхаараа ан-Эртхабадром в зыбком сиянии, окутанный ароматами ладана и мускуса.
Он был тонок, как тенкинское копье, и кожа цвета финика просвечивала сквозь белую рубашку. Четырнадцать кос касались ковра, на котором он стоял, у маленьких коричневых ступней. И когда Лакхаараа взглянул на его лицо, то не смог отвести глаз и не скрывал от купца, что доволен увиденным. Казалось, ласковой ладонью оглажено овальное лицо, такими мягкими были его черты, брови высоки и округлы, веки гладки, а ресницы бросали тень на щеки. Он стоял, опустив глаза, сложив перед грудью узкие ладони.