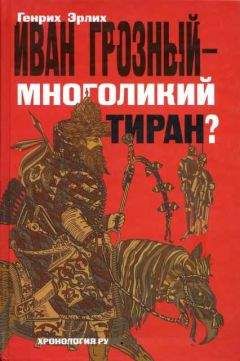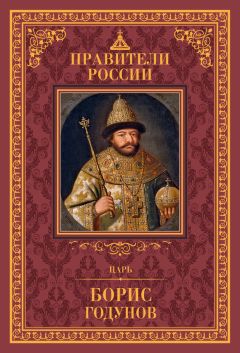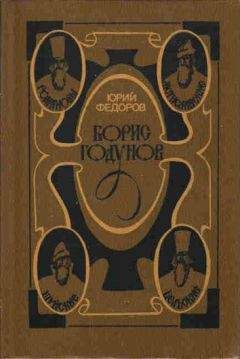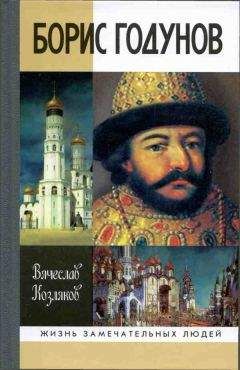Генрих Эрлих - Царь Борис, прозваньем Годунов
Симеон, стеная и чуть раскачиваясь, сидел на полу возле распростертого Ивана и расширившимися от ужаса глазами смотрел, как из его виска струится кровь. Заслышав мои шаги, Симеон поднял на меня глаза и принялся быстро и сбивчиво рассказывать, больше жестами, чем словами, что произошло. Как Иван, раскрасневшийся без меры от жары и спора, вдруг побледнел, спал с лица и, отпустив посох, схватился рукой за сердце, сделал шаг назад, закачался и стал заваливаться на бок, ударившись виском об угол мраморной столешницы. Весь этот рассказ плохо доходил до меня, помню лишь, что, следуя за жестом Симеона, я посмотрел на столешницу и увидел на ней немного крови. Тут из груди Ивана вырвался хрип, и я, немного ободренный, бросился на колени перед ним, рванул застежки кафтана, припал головой к груди. Сердце билось, но тихо и очень быстро, как будто лист березы трепетал на осеннем ветру, и как с тем листом казалось, что в любое мгновенье может оборваться ниточка жизни, лист оторвется и тихо падет на землю, превратившись в прах. Но пока жизнь теплилась, питая надежду. Я вскочил, крикнул слуг, приказал перенести Ивана в его спальню и положить на кровать, пройдя следом, одним ударом вышиб окно и пустил в комнату морозный, свежий воздух. Иван, казалось, задышал ровнее, тогда я побежал обратно к Марии, опасаясь, как бы она не выкинула от волнения, но и здесь пока самого страшного не произошло. Немного успокоенный, приказал ей одеться как подобает, потому что даже в такие минуты не должно забывать о приличиях, тем более если ты принадлежишь в царскому роду, и, поспешив вновь к Ивану, буквально споткнулся о царя. Симеон по-прежнему сидел на полу, раскачиваясь и причитая, а слуги теснились поодаль, боясь подойти к нему. Лишь повинуясь моему решительному приказу, они подхватили его под руки и повлекли прочь — немощного старика, разбитого ужасом содеянного!
* * *Иван так ни разу и не пришел в себя во все четыре дня своей болезни. И все это время у ложа его денно и нощно бодрствовали трое. Княгинюшка, которая все эти годы избегала Ивана, но, едва прослышав о несчастье, примчалась — добрая душа! — и теперь утирала его лицо и тело губкой, смоченной в уксусе, говоря, что это освежит его, но, как мне казалось, более надеясь на то, что ее ласковые прикосновения вызову!1 ответное движение в этом сильном, но неподвижном теле. Симеон, притулившийся у самой головы Ивана и буквально приникший ухом к его устам, ждавший даже не движения — слова, последнего прощения, которое бы сняло грех с его души. И я, который ждал только одного — чуда!
Я почти непрерывно молился — что я еще мог сделать? И в редкие и короткие перерывы между молитвами пытался понять, что же произошло с Иваном. Я ведь тогда, в первые минуты, с поразившим меня самого хладнокровием и спокойствием обмыл рану на виске, ощупал все вокруг и внимательно рассмотрел. Кость была цела, а что крови много натекло, так это из длинной, в палец, рваной раны, это ерунда — заживет. Я тогда сильно ободрился, ведь такие удары в висок либо сразу человека на тот свет отправляют, либо уж почти без последствий остаются, полежит человек час-другой в беспамятстве, да потом голова немного погудит, вот и все. Лишь когда Иван не очнулся ни в тот день, ни на следующий, я понял, что голова здесь ни при чем. Стал я вспоминать рассказ Симеона и догадался, что удар поразил не голову — сердце Ивана. Не может такого быть, воскликнете вы, где это видано, чтобы молодые, сильные и здоровые от сердца гибли, кроме как от неутоленной страсти сердечной. Все может быть, отвечу я, вспомните, какую жизнь вел Иван с самых первых лет, сколько страданий, борьбы и трудов выпало на его долю, если по нижней планке засчитывать год за три, все равно выходит он глубоким стариком. Сохранил он тело сильное, душу молодую, но сердце его сполна прожило все эти годы. Да и нездоровым было сердце его с молодых лет, это я только тогда понял. Вспомнилось мне, как во время жизни нашей в слободе нередко в минуты покоя вдруг бледнел Иван, хватал мою руку, прижимал к груди своей и говорил: «Послушай, дядюшка, как бьется сердце! Как птица в клетке!» «Именно как птица в клетке! — подхватывал я. — Рвется оно к жизни светлой, к подвигам и славе!» Я ведь тогда только об одном думал и любой повод использовал, чтобы направить Ивана на путь исправления. «Возможно, ты и прав, дядюшка, — отвечал мне Иван, — вот только почему становится так тоскливо и страшно на душе?» Еще, бывало, жаловался Иван, что иногда обмирает у него все внутри и меркнет на мгновение свет перед глазами. Успокаивал я его, но сам нимало не беспокоился, ведь и у меня иногда обмирало все внутри и свет перед глазами меркнул далеко не на мгновение, смирился я с этим и, можно даже сказать, привык. Были и другие мелкие неприятности, но я считал их именно мелочами и отмахивался от них беспечно: молодой, сильный, здоровый, что с ним станется?
И вот — сталось. И никто не мог Ивану помочь. Симеон даже своих лекарей-иностранцев призвал, но те лишь дули щеки, качали глубокомысленно головами, говорили всякие мудреные слова и разводили руками. Прогнали. Так и сидели втроем, ожидая каждый свое. К исходу четвертого дня Иван встрепенулся, вздохнул глубоко и — умер.
Дворец, во все эти четыре дня безмолвный, огласился стонами и плачем. И плач этот расходился волнами по Москве и дальше по всей земле Русской. Все люди русские, а особливо ратники, холопы и смерды, молились о душе раба Божия Ивана-царевича. Так в смерти обрел он имя, под которым вошел в историю и в память народную. У народа ведь своя история, воплощается она в сказке и так передается изустно из поколения в поколение. Вот и стал Иван-царевич одним из самых любимых героев наравне с богатырями былинными, был он добрым, смелым, веселым и всегда готовым прийти на помощь простому человеку. Как и Иван. Все, как в жизни.
Но и бояре с князьями и весь двор скорбели непритворно. В день похорон казалось, что черный град накрыл Кремль, не оставив ни одного светлого места. Царь Симеон сам указал место в отдельном приделе храма Михаила Архангела, где надлежало захоронить Ивана, и тут же распорядился, чтобы и его после смерти положили рядом. Долго Симеон бился над гробом, перечисляя все достоинства Ивана и прося у него прощения за свой грех невольный. Княгинюшка рыдала вместе со всеми. Лишь я не мог выдавить ни слезинки, ни слова. Горе, не находя выхода, распирало грудь и голову и лишь к вечеру разразилось оглушительным взрывом. Господи, зачем Ты ждал так долго?
«Господи, зачем вернул Ты меня в эту юдоль скорби?» — подумал я, очнувшись на третий день.
Оказалось, что у меня осталось еще множество дел, и важнейшим из них была забота о душе Ивана. Как я мог пренебречь первейшей своей обязанностью?! Нет мне оправдания! И еще никогда не прощу себе, что Симеон опередил меня в делах благочестия. Дело не в том, что сделал он более богатые вклады в монастыри на помин души Ивановой, разослал десятки тысяч рублей не только в русские обители, но и патриархам в Царьград, Антиохию и Александрию — все ж таки у Симеона несколько больше возможностей для этого. Но именно Симеону пришла в голову мысль о примирении души Ивановой с душами всех, винно или безвинно погибших в годы его правления, тем более что многие и погибли без покаяния и отпущения грехов. Для этого повелел Симеон составить поименный список всех жертв и разослать сей синодик вместе с отдельными богатыми вкладами по всем крупнейшим русским монастырям, чтобы вовеки веков молились иноки об успокоении их душ. Мне только и оставалось, что включиться в эту работу, внимательно следя за тем, чтобы дьяки по небрежению не пропустили кого-нибудь. Сверялся с делами разыскными, вновь с трепетом всматривался я в листочки, исписанные крупным корявым почерком Малюты Скуратова. Укорял я его в свое время за убийственную дотошность, теперь же сетовал на недостаточную аккуратность. Записки его были мало пригодны для поминания, сплошь и рядом указывал он не христианские имена, а прозвища, и, озабоченный больше подсчетом числа жертв, указывал именно число, а об именах делал отписку, что они Господу ведомы. Да и мало осталось бумаг от того времени, что-то сгорело в слободе во время пожара странного, что-то мыши попортили, а по иным книгам прошлась чья-то злокозненная рука, с мясом вырвавшая некоторые листы. Вот и приходилось мне вспоминать виденное и слышанное и выводить бесконечный ряд имен: Иван, Иван, Тимофей, Иван, Иван, Никанор, Иван, Иван…
В который раз просматривал я синодики — не забыли ли кого-нибудь. У некоторых имен останавливался, вспоминал хорошо знакомого мне человека, молился про себя о том, чтобы нашла душа его успокоение в кущах райских. Так дошел я до Курбских, до жены и сына князя Андрея. Почему попали они в список скорбный? Ведь своей смертью умерли, пусть и в узилище. И Иван к смерти их никакого касательства не имел, хотя бы по молодости своей. С другой стороны, справедливо внесли их в этот список, ибо они, несомненно, жертвы, жертвы времени и обстоятельств. Не случись того досадного недоразумения, была бы Евдокия сейчас жива, а младший князь Андрей воительствовал бы по примеру отца. Сколько ему было бы? Тридцать, хороший возраст. Был бы уже вторым воеводой и готовился бы принять у отца бразды управления полком правой руки.