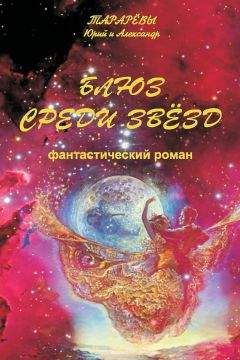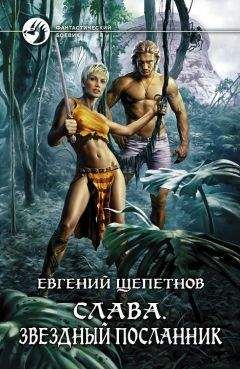Валерий Белоусов - Утомленное солнце. Триумф Брестской крепости
Дорога, забитая изувеченной техникой до совершенно непроезжего состояния… Машины, повозки, новейшие KB и старенькие БТ-2… На много, много, много километров…
Называется это побоище — Конно-механизированная группа генерала Болдина.
23 июня 1941 года. 05 часов 19 минут.
Севернее Бреста. Немирув
Из динамиков агитационной машины отдела пропаганды вырывается бодрая маршевая песня: «Гимн Русского похода», автор музыки Альфред Йиллинг… слова народные.
«Auf, Kamerad! Die Zeit ist reif!
Am Himmel steht ein Feuerschwif!
Die Infanterie ruft — Marsch voran!
Lasst uns nach Russland starten!
Der Fuhrer ruft — drum, Schats, ade!
Zum Siege Sturm die Ost-Armee!»
С закатанными по локоть рукавами, бодрые, веселые — они вступали на нашу землю…
В этом конкретном месте — их много, очень много…
А наших там было…
Окопчик. В нем — два немолодых[75] мужичка, призванные из запаса на Большие учебные сборы, сведенные в этот окоп общей печальной судьбой. На бруствере лежат две старенькие винтовочки, да пара гранат…
Мужички терпеливо ждут врага. Держат свой фронт.
Один, похожий на школьного учителя, без всякой надобности протирает полой гимнастерки круглые очки в металлической оправе. Губы шевелятся, он что-то неслышно ритмически шепчет — неужели стихи? Поверить невозможно…
Второй, по виду типичный ЖЭКТовский слесарь-сантехник, напоследок яростно затягивается смятой папиросой «Беломорканал», фабрики им. Урицкого… и по всему видно, прекрасно понимает — докурить уже и не успеет.
Потому как осталось им жить всего минуту до начала их первого и последнего боя, и столько же после броска их гранат и пары-тройки торопливых выстрелов…
За ними и рядом с ними сейчас никого. Только поле, лесок, голубое, выгорающее небо… Только Советская Родина.
Спокойный, чуть усталый голос. Никакой патетики. Доверительная, дружеская интонация…
Мы это дело сразу увидали —
Две роты как поднялись из земли,
И рукава по локоть закатали,
И к нам с Виталий Палычем пошли.
А солнце жарит — чтоб оно пропало!
И больше нет уже у нас судьбы иной…
И я шепчу: — Постой, Виталий Палыч,
Подпустим гадов ближе, дорогой…
Окопчик наш — последняя квартира,
Другой, уж видно, нам не суждено…
Поганые мышастые мундиры
Подходят, как в замедленном кино…
А солнце жарит — чтоб оно пропало!
И больше нет уже у нас судьбы иной…
И я шепчу: — Постой, Виталий Палыч,
Подпустим гадов ближе, дорогой…
Как тихо в мире… Вижу лишь я только —
Травиночка в прицеле задрожит…
А сзади — лес, не нужный нам нисколько…
Но сзади… Сзади Родина лежит.
Пусть солнце жарит — чтоб оно пропало!
Пусть нет уже у нас судьбы иной…
И я сказал: — Давай, Виталий Палыч!
Кидай свою гранату, дорогой!
Слова тоже — народные… музыка Визбора. А что, Визбор, он не русский народ?
…Народы у нас разные. Фашистская сволочь — и советские люди. Потому и разные песни поем…
23 июня 1941 года. 06 часов 21 минута.
Штаб 4-й армии
— Товарищ командующий, я чудом, чудом уцелел! — Горячась, захлебываясь слюнями, начальник штаба армии Сандалов почти кричал. — Если бы я вовремя не прикрылся, то осколок прямо в меня угодил бы! Представляете, какая бы это была потеря для штаба, для армии, для всего фронта? Эх, вот только жалко — потерял я своего любимого котенка, отстал, видно, где-то, мой бедный Белянчик… И «эмка» моя сгорела — представляете, мне пришлось в кабине простого грузовика ехать!
— У нас здесь ходят слухи, что противник, прорвавшись между Высоким и Брестом, распространяется на Видомль! — нетерпеливо перебил Сандалова командующий армии Коробков. — Поезжайте сами в дивизию Васильева, узнайте, что там делается, и свяжите его с танкистами.
— Виноват, товарищ командующий, — Сандалов удивленно пожал плечами, не веря своим ушам, — но я очень занят, мне надо срочно готовить оперсводку для Генштаба! Сами ведь знаете, главное — ведь не то, что именно произошло, а — главное, как об этом правильно доложить руководству…
— Поезжайте немедленно! — взорвался Коробков. — Я и так излишне Вам доверился! С Вашей эрудированностью и образованностью может так случиться, что докладывать оперсводку будет уже некому!
Сандалов уходит обиженный в лучших чувствах, очень-очень тихо, чтобы никто, никто не услышал и не доложил, бормоча под нос: «Самодур! Совершенно невоспитанный тип! Мужлан!».
23 июня 1941 года. 06 часов 31 минута.
Жабинка
— Скотина! Ты что с моей машиной сделал?! Я ее тебе доверил, как человеку, а ты! Петух ты гамбургский!
Красноармейца Эспадо можно понять… Его любимый «саблезубый» весь покрыт шрамами и вмятинами, как будто его царапала сотня обезумевших великанских котов…
— Так ведь, товарищ командир… Налет был…
— Я уже понял, что был налет! Отчего же вы, лишенцы, из зенитного пулемета не стреляли? Так близко бомбу можно положить либо с пикирования, либо уж совсем случайно, а я в такие случаи не верю!
— Да что Вы, товарищ командир, на нас все орете, как потерпевший! Ночку всего и отдохнули мы от Вас… — окрысился башнер.
— Как же нам было стрелять, командир, — примирительно сказал пожилой, тридцатилетний мехвод, призванный из запаса на БУС, — ежели пулемет ты над своим люком пристроил, а там — сидел уже не ты, а это говно усатое… то есть товарищ лейтенант… А как налет начался, так он совсем не стрелял, а сразу спрыгнул с башни, и юрк — под танк… Ну, я чтобы его не задавить, ударил по тормозам… Тут и грохнуло…
— Лучше бы ты его задавил, ирода. Где он, кстати? А ведь у меня кулак уже зудит!
— Да осколками его пошинковало… лопатой из-под машины выгребали!
— По делам вору и мука. Ладно, проехали, ты мне вот что лучше скажи: ты масло в КПП сменил? Нет? А ПОЧЕМУ?!!
23 июня 1941 года. 07 часов 00 минут.
Москва. Кремль
— …а Вас, товарищ Ворошилов, я попрошу остаться!
Первый рабочий день войны, которую позднее назовут не только Великой, но и Отечественной, наконец заканчивался…
Из прокуренного кабинета выходили генералы… Последним вышел, подозрительно посмотрев на «первого красного офицера», начальник Генерального штаба.
Товарищ Сталин неслышно прошелся за спиной замершего за широким и длинным столом Ворошилова, потом резко остановился, выбросив вперед, как будто вонзая нож в чью-то спину, руку с зажатой в кулаке давно погасшей трубкой…
— Клим, ты мне веришь?
— Да, Коба… Я тебе верю. Безгранично верю! — дрогнувшим голосом сказал Ворошилов.
— И я тебе верю… пока… А вот ИМ — уже нэ верю! — кивнув на закрывшуюся за генералами дверь, сказал Сталин. — У товарища Жюкова — полный ажюр… На Люблин и Сувалки наступать собрался, да? Маладэц… Вот только Лаврентий мне сейчас доложил, что немцы Вильно взяли! — Сталин удивленно покачал головой. — Слюшай, как это так взяли?! Ничего не понимаю. Столицу Союзной Рэспублики взяли? И Жюков мне ничего не доложил? Странно, да? Кто здэсь дурак? Лаврентий дурак? Или Жюков дурак? Или это Я ДУРАК? — Сталин секунду помолчал, пососал давно погасшую трубку. — Молчишь, Клим? Ну-ну. Молчи, молчи… «Акт приемки Наркомата обороны» я хорошо помню…
— Товарищ Сталин, да я… — подался вперед Ворошилов.
— А чито ты, Клим, так заволновался, да? Есть о чем волноваться? Нэ волнуйся. Пока нэ волнуйся… Значит, сделаем так, Клим… Бери Лаврентия, и поезжайте с ним моими прэдставителями на Сэверо-Запидный и Запидный фронт. Будете там моими глазами и ушами! А эсли чего увидишь — гони всэх в шею и сам принимай командование… Я хотел на Запид послать Кулика… Но что-то мне говорит…
24 июня 1941 года. Штаб 10-й армии Западного фронта. Маршал Советского Союза Кулик приказывает: — Всем присутствующим командирам снять знаки различия, выбросить документы, ордена и оружие… Потом вместе со своим адъютантом переодевается в крестьянскую одежду, единственные из «всех присутствующих»… Происходящее внимательно фиксирует начальник особого отдела Армии, так что все — приведено дословно.
Сталин секунду помолчал, прислушиваясь к себе:
— Что-то мне говорит, что ты, Клим, справишься там лучше… Смотри, Клим. Нэ подвиди мэня. На этот раз.[76]
23 июня 1941 года. 07 часов 02 минуты.
Варшавское шоссе. Где-то восточнее Бреста
Как и вчера по шоссе идут, идут и идут — машины, повозки, люди…