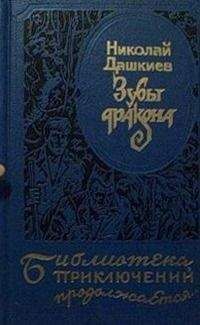Полудержавный властелин (СИ) - Соболев Николай Алексеевич
— Никак я этот «ноль» не пойму, княже…
— Ноль — это просто значок, он обозначает «ничего нет».
— Коли нет ничего, зачем это писать?
— Чтобы знать, где пусто.
— Так я и так знаю!
— Ты знаешь, так и другим знать надо. Вот, смотри, вот сюда пишем, что водной кладовой лежит, сюда — что во второй, сюда — что в третьей…
— Ага, так и делаю.
— Вот, в первой кладовой стоит дюжина бочонков с медом — пишем сюда дванадесять, в этой четыре пуда воска — сюда пишем четверку, а тут ничего нет — сюда пишем ноль…
— Князь-батюшка!!! — внезапно заголосил Якунка, да так, что я чуть не подпрыгнул и не выронил перо. — Помилуй, милостивец, как ничего??? Там восковые круги, и перга, и забрус на перетопку!
— Да не ори ты, представь, что оттуда все вынесли…
— Без княгининого дозволения? Никак невозможно!
И вот так всю дорогу.
Теоретически, мы сейчас даже паровую машину построить можем.
Но людям она решительно поперек привычного, какой там цикл Карно, когда нет даже понятия о расширении пара, об агрегатных состояниях, о давлении в системе и прочем. То есть для всех, кроме нас с Димой да полудесятка спецов вроде Збынека с Кассиодором или металлистов из Устюга, паровая машина будет эдаким «черным ящиком» — сюда дрова, сюда воду, отсюда пых-пых и колесо крутится.
Но человек-то его не крутит, и лошадь не крутит, а кто же тогда?
Черти, больше некому.
И сколь кресты на котел на вешай, сколь не освящай машину, сколь молебнов не твори — все равно чертовщина. Даже в XIX веке от чугунки с воплями «Чур меня!» шарахались, пока не пообвыкли, а чтобы пообвыкнуть надо было дорог и паровозов в количестве понастроить. Одну-то машину мы, положим, осилим, а десяток? Всем княжеством на них работать? Так дешевле водные колеса, хоть и под ними тоже черти, но свои, местные.
Ведь анекдот про два стальных шара, которые русский в замкнутом пространстве «один сломал, а второй потерял», неспроста возник. Не готовы люди воспринимать и понимать технику, доверь такому — он по простоте душевной ее запорет, а коли полезет чинить, то поломает окончательно. Когда там Чехов «Злоумышленника» написал? Конец XIX века, четыреста пятьдесят лет тому вперед.
Так что пушки пушками, паровики паровиками, а от толкового методиста начальных классов, пожалуй, пользы будет в дальней перспективе в разы больше. Или от юриста хорошего, по гражданскому праву. Сейчас-то технари нужнее — поднять производительность, приблуды всякие нужные сделать и так далее, а вот дальше без гуманитариев не обойтись.
И пропагандиста хорошего, политтехнолога, чтобы все и сразу понимали, что происходит. Верхушка уже немного соображает — целую очередь на перепись сформировали. И ладно там верховские княжества или Ярославль с Ростовом жаждут, так еще и просители из Твери и Рязани прибыли — перепиши нас, будь ласка! И даже с Новгородского двора удочки закидывали на тему «вот бы и нам». Просекли фишку-то верхи, но чем ниже уровень, тем больше ропота.
Или вот в западных княжествах — все ведь видели, куда католическое засилье ведет! Вытащил Дима вас из этой задницы, вернул полные права, прогнал католических попов, казалось бы — живи да радуйся! Ан нет, все равно, надо барагозить, заговоры устраивать, лишь бы подгрести побольше…
И что ни делаю, все время чувствую это глухое сопение, гундеж «не по старине», саботаж ползучий… Упругая стена, давишь — прогибается, перестаешь давить — тут же в исходное состояние. Вроде делаешь все ко всеобщей пользе, но натыкаешься на кучу частных интересов.
И перепись это болото изрядно взбаламутила. Людишки Вяземского к весне уже много накопали на таких, кто покамест тихо бурчит и возмущается по углам. Перемены им не нравятся, капает над ними — так жизни без перемен не бывает, только не все это готовы принять.
Ничего, закончим перепись, сведем кадастр, будем упругую стену пробивать Диминым методом. Недоволен, заговоры устраиваешь? Ну так страна у нас большая, много необустроенных земель, туда и поедешь. Тем более отличные примеры перед глазами из тех, кого Шемяка в Пермь да Вятку загнал, все неплохо устроились и землю роют, пытаясь восстановить прежнее состояние. Выжившие Гаштольды даже более прочих отличились, очень неплохо в Перми обосновались, епископ на них не нахвалится — активно миссионерствуют, обращают местных в христианство, попутно себя не забывают, наращивают вотчины…
Перепись, однако, продолжили без меня.
То ли зря порадовался первому весеннему солнышку и распахнул тулуп, то ли застыл где при ночлеге, но — жар, бред, озноб и все тридцать три удовольствия. И в Москву меня привезли полумертвого и без сознания.
Первый раз из забытья вынырнул, когда меня под вопли и причитания дворни тащили из возка в палаты. Ревели бабы, сдержанно шипели мужики:
— Горе, горе-то какое! За что такая напасть, Господи?
— Цыц ты, дура, не голоси, как над покойником! Даст Бог, выздоровеет князь! Молиться надо!
— Господи Иисусе, даруй исцеление рабу Твоему Василию…
— Вася, Васенька! — услышал как бежит по лестнице Маша и снова провалился во тьму.
Сквозь вязкий жар отрывочно слышал тревожное гудение, в котором с трудом распознавал Голтяя, Добрынского, Патрикеева, рынд, Никулу…
— Что делать будем, коли помрет? — спросил полузнакомый голос.
На него никто даже не шикнул, а я все никак не мог пробиться через патоку, в которой плавал мозг и сообразить, кто это там такой любопытный.
— Негоже, князь, о таком мыслить. Иди, помолись о здравии собратанича, — ответила тьма голосом Никулы.
Собратанич… собратанич… а, двоюродный братец примчался, Иван Можайский…
И снова тьма.
А потом по лбу разлилась прохлада и я открыл глаза: надо мной плакала Маша, в углу над исходящими паром крынками возилась баба в темном, а вся палата тонко пахла уксусом.
— Уксус… зачем… — через силу спросил я.
— Обтираем, ладо, — сквозь слезы ответила Маша, — и белье кажный час меняем, потешь сильно, выжимать можно.
— Травами… пои… малиной…
— Бабка Ненила с Максатихой так и делают, а я молебны служу.
— Водкой… растирайте…
— Водкой? — переспросила баба в темном.
— Вод… кой… жар… сбить…
И снова провал, на этот раз ненадолго — и Маша, и бабки никуда не делись, и еще пришел Никула, читавший в углу с аналоя Псалтырь.
Чугунная голова и шершавый язык, вот и все, что я успел осознать. Но тут меня слегка приподняли и поднесли ко рту мисочку с горячим отваром:
— Пей, княже, пей.
Судя по свету за оконцами, в следующий раз очнулся я утром. В том же углу под неодобрительным взглядом Никулы бабка Максатиха шептала над своими травами и настоями, в крестовой палате придушенно лаялись ближники — кому что делать, случись что.
Вот же сволочь братец Иван, влез со своим поганым вопросом… Хотел было сказать — не ссать, есть Дима, он продолжит, но сил хватило только приподняться да издать горловой звук, как снова провалился в беспамятство.
Хотя нет, не в беспамятство, скорее, в измененное состояние — в полубреду мозг активизировался и вытолкнул на поверхность кучу идей и разной информации. Но как со сновидением — стоило проснуться, как ничего не смог вспомнить.
— Спи, ладо, спи, ты бредил, тебе спать надо.
— Посади… дьяка… бред… записывать…
— Спи, спи…
И снова выключился, на этот раз в кошмар — пробила до судорог мысль, что раз мы с Димой тут вдвоем, то может есть и третий, и четвертый? А если есть, то за кого они? И как их найти? Может, в степи потому и тихо, что там кто-то из наших подыгрывает?
Очнулся очередной раз — возле кровати Юрка. Сил хватило только на то, чтобы прогнать, не дай бог, у меня зараза какая. Заодно про марлевые повязки вспомнил.
И вот тут меня накрыло по-настоящему.
Глава 14. Ксенофобия и другие ужасы
Несколько суток между бредом и явью кувыркался, есть не мог, поили отварами да настоями, истощал весь. Наверно, когда сына гнал, перенапрягся, вот кризис и накрыл — после было очень тяжело, но день ото дня отпускало, понемногу прекратились бредовые видения и я просто проваливался в черноту сна.