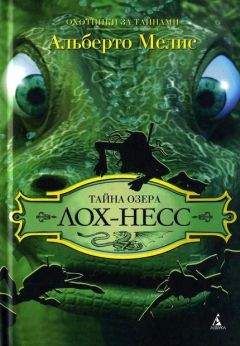Павел Тюрин - Legenda о «писающем британце»
Конечно, можно издать указ и в директивном порядке язык изменить: такими-то словами пользоваться можно, а такими нельзя. Точно то же проделать и с синтаксисом, и с количеством придаточных предложений, к примеру… Но, на мой взгляд, это будет равнозначно приказу человеку родиться высоким, красивым, желательно блондином с голубыми глазами. А того, кто посмеет родиться брюнетом, подвергать наказанию. Любой биолог вам скажет, что есть генетический код, законы наследственности и еще много всякого, над чем мы покамест не властны. А язык, на котором мы говорим, по природе своей – то же самое. Из чего вовсе не следует, что такие приказы не отдаются – мир наш полон абсурда, – но приказам этим суждено остаться всего лишь приказами. Тут куда интересней другое: почему наш язык стал таким, каким стал, причины чего лежат много глубже, чем мы обычно копаем. Они залегают в культуре. И как говорят, что каждый народ имеет то правительство, какое он заслуживает, точно то же можно сказать и о языке, являющемся следствием нашей культуры. Или бескультурья. Но о чем чуть-чуть ниже.
Павел Тюрин подает свой текст, особенно в первой части, где речь идет о создании культа Ричарда Блокхеда, в этакой бравой газетной манере, пародируя ее приподнятый жизнерадостный тон, самолюбование и самовосхваление, и без устали рассыпает штампы-клише, типа: «как мы говорили», «как мы писали», «как мы предвидели»… Настоящему газетчику наперед все известно, его ничем не удивишь, потому что он не умеет удивляться, и из этого неумения вырастает монстр…
Книга Тюрина – не исследование лингвистических или лексических особенностей нашей сегодняшней речи. И слава Богу, что не исследование, а то бы получилось что-то филологически высоколобое, сдобренное психологическими и социологическими инвективами – иными словами, нечто академическое, рассчитанное на узкий круг читателей-специалистов. Труд, конечно же, нужный, полезный, и я уверен, найдутся такие, кто этим займется, но нетривиальным «писающего британца» я бы тогда не назвал. И удивления моего «британец» бы этот не вызвал. Да и рецензию, скорее всего, не стал бы писать. «Легенда о британце» – это литература, в первую очередь – литература, художественное произведение, о котором и говорить следует как о художественном. Разве, посягающем на стереотипы нашего восприятия, перехлестывающем, выбивающемся за рамки привычного. На страницах «британца» есть место и ёрничанью, и издевке, и бурлеску… Да я просто теряюсь: чего в книге нет?
Тут-то и пришло время поделиться ассоциациями, которые меня посетили. Кому-то они покажутся странными… Но ассоциации вообще штука странная. «Жизнь и мнения Тристрама Шенди, джентльмена», Лоренс Стерн. Где слово «джентльмен», на мой взгляд, – решающее.
А для забывчивых: Тристрам Шенди – герой многотомной эпопеи Лоренса Стерна, первые тома которой увидели свет в 1759 году. Эпопеи, к слову сказать, незаконченной, что достаточно симптоматично, поскольку есть книги по определению не допускающие финала. В них есть увертюра, за нею – крещендо, а коду допишет пускай сама жизнь.
Но причем здесь Павел Тюрин? – возникает вопрос. – Тем более, с «писающим британцем»? Или этого, поленившегося отыскать туалет путешественника, я хочу произвести в джентльмены? – Ни в коем случае. Задачу я вижу в другом. – Да и Лоренс Стерн, – спросит кто-то, – XVIII век!? А мы живем как будто бы в XXI-ом!? Или, может быть, тут возрождение жанра? – Но тогда нестыковки еще с географией. Лоренс Стерн – основоположник сентиментализма (во всяком случае, принято так считать), – явление больше Западное, нежели порожденное русскоязычной средой. Предвижу, как меня тут поправят: а Н. М. Карамзин, а И. Свечинский, а Г. Каменев? Даже В. А. Жуковский отдал дань сентиментализму. И все-таки на Руси мировоззрение это (а жанр – всегда мировоззрение) не очень родное, скорее привитое через переводы из И. В. Гёте и С. Ричардсона. Да и во временно́м плане недолгое. Взошла звезда А. С. Пушкина и сентиментализм из словесности русской ушел. Кто будет восторгаться «Бедной Лизой», держа в руках «Евгения Онегина»? А на Западе сентиментализм продержался и долго – почти весь XVIII век, прихватив и часть XIX-го.
И все-таки, – скажут мне, – давно все это было. Жанр умер и на смену ему пришли другие. А тут вдруг, под пером Павла Тюрина, возродился?! Но так не бывает, жанры не возрождаются – они трансформируются, становясь атрибутами новой эпохи, и тогда называть бы их лучше иначе. Но на название посягать я не стану. На мой взгляд, рановато. Вот если автор «Легенды о писающем джентльмене» напишет что-то еще в том же духе, или у него появятся продолжатели, чего доброго, сложится школа – тогда другой разговор. А пока этого не случилось, оставим-ка лучше как есть, без названия. И разберемся с географией, что окажется проще, чем с жанром. Потому что география в том, старом, смысле, когда из Москвы в Петербург надо было добираться неделями, а из Лондона в Ригу еще того дольше, давно канула в Лету… Чтобы вынырнуть из нее «большою деревней».
То есть, уперлись мы в эту деревню. И поверьте, отнюдь не случайно.
Из истории, будь то Римской империи, Средних веков или Нового времени, мы знаем, усвоили, что культура, наука… – да что ни возьми, все самое передовое и лучшее, концентрировалось в городах, еще больше – столицах. Которые нынче на глазах размываются.
Я понимаю, это сложный процесс, и в короткой рецензии я едва ли сумею его осветить. В том, что деревня двинулась в город, – а это факт, с которым навряд ли кто вздумает спорить, – мы можем найти не только отрицательное. К тому же двинулась не в одном лишь физическом смысле. Порою менять место жительства нет ни малейшей нужды. Техническая революция сделала и продолжает делать свое дело. И сидючи в какой-нибудь Тмутаракани мы можем сегодня вполне комфортно себя ощущать ничуть не оторванными от цивилизации и от происходящих в ней изменений. Для чего достаточно достать из кармана мобильник, ткнуть нос в компьютер и интернет, нажать пару кнопок – и мы уже находимся… да где пожелаем: в библиотеке, заставленной книгами, бродим по залам музея и смотрим на шедевры Леонардо да Винчи, Боттичелли и Гойи. И с музыкой в точности то же. Архитектура и зодчество. Все нам доступно!
И, тем не менее, эта доступность часто, я бы сказал, слишком часто, оборачивается своею изнанкой. Как река, когда она разливается вширь, перестает точить в глубину свое русло. Обретает поверхность, много поверхности, но реку вот эту перейти можно вброд. Не надо строить корабль, нет смысла перекидывать мост. И мы, того не заметив, начинаем терять свои прежние навыки. Разучаемся строить, что-то делать руками, да и извилинами в мозгу шевелить у нас тоже нужда отпадает. Зачем знать, сколько будет девять в квадрате, если достаточно заглянуть в калькулятор?
И снова вопрос: о культуре я будто завел, – так причем тут какие-то навыки? Беру и читаю. Смотрю, что хочу. Расширяю, короче, свой кругозор…
Есть такой анекдот, очень старый. Преуспевшего в жизни еврея спрашивают: – А на скрипке ты умеешь играть? – На что он отвечает: – Не знаю, не пробовал.
И нечто подобное происходит с нами: обзаведясь электроникой, всем новомодным, мы в себя поселяем уверенность, что нам море теперь по колено. Мы способны на все! Просто не до всего дотянулись у нас пока руки. Но стоит лишь нам захотеть, и скрипка, рояль или что там еще – сию же минуту нам станут покорны. Что мы без труда, – как гласит народная мудрость, – вытащим рыбку из пруда. Вот только мудрость над этой рыбкой посмеивается, а мы принимаем всерьез. Чувство юмора нам изменило. Чутье к языку, на каком говорим, притупилось. Мол, язык – он вербальность всего. А речь то идет о конкретных вещах. Доступность, короче. Бери! Все – бери! Что взбрендит – тот миг протяни только руку!.. Все это и обрекает разливаться вширь наши нереализованные таланты, возможности, одновременно лишая этот разлив глубины. А ведь именно в глубине и таится культура. Та самая культура, которой напрочь лишен… – нет, не Шенди-джентльмен, – а до поры писающий турист из туманного Альбиона.
И это блестяще показано Павлом Тюриным в первой части книги – «Памятник».
И не знаю, хотел того автор или нет, скорее всего это произошло спонтанно, просто увлеченный материалом, попавшим в его руки – а это реальный материал, ничуть не придуманный, – он пошел по стопам Лоренса Стерна: воспринимать мир, как пробегающие перед глазами картины, не утруждая себя осмыслением происходящего (из чего вовсе не следует, что осмысления нет, но оно остается за обочиной повествования). Отложился такой способ подачи увиденного где-то в подкорке сознания, а теперь, вот, протек на бумагу. Жанры не возрождаются, я уже об этом сказал. Но Тюрин перенимает не столько жанр, сколько стерновский метод, ведет повествование, не отождествляя себя ни с текстом, ни со своим героем. Можно сказать, и что Стерн остается за кадром, говорит о событиях, соблюдая нейтральность: мол, я третье лицо – никаких с меня взяток! – и все-таки та симпатия, с какой он относится к Шенди, наводит на мысль, что не все так уж просто и гладко. Что есть потаенные нити, связывающие повествователя с героем. Что и у Тюрина просматривается, но, если так можно сказать, эволюционно: ничем подобным не пахнет в первой части книги, и довольно отчетливо просматривается во второй. Однако, сейчас мы говорим о первой. Автор намеренно дистанцируется как от того, о чем повествует, так и от техники – как это делает. Даже больше скажу, местами он низводит и текст, и героя до уровня, где их как бы и нет, где они исчезают. Есть буквы, слова – что посмей назвать текстом?! И тогда остается лишь что-то мельтешащее, что-то тенями пробегающее по страницам. Какие-то безликие фантомы, рядящиеся в человеческую одежду. И находятся другие тени-фантомы, этакие голые короли, прибежавшие сюда из сказок Андерсона, по одежке распознающие первых. И готовые восхищаться увиденным, убедившие себя, что все это – не бред, что глаза наши зорки, все зрят и все видят. И будь все это подано как рассуждения, выводы, снабди Павел Тюрин хоть один эпизод глубокомысленным заключением – вся аура, шарм тот бы миг испарились. Нельзя говорить то, о чем он говорит, серьезно. Но из этого вовсе не следует, что автор от серьезного разговора увиливает. Просто всему свое время. И чтобы такой разговор в конце концов получился, надо прежде увидеть, понять, в чем предмет, где здесь точка отсчета. Перед нами как будто река, то, что было сначала рекой, в ней водилась какая-то рыба, а потом растеклась, превратилась в болото. Куда ни ступи – одна топь. Оттого-то и живность в ней стала убогой. Старый рваный башмак и обрывки газеты, где вместо слов обустроились мухи.