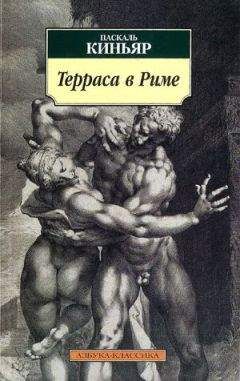Паскаль Киньяр - Секс и страх
От самосозерцания до омофагии всего лишь один шаг. Ненависть к себе выросла до устрашающих размеров. Во время гражданских войн один легионер отрубил голову своему соотечественнику. Голова, скатившаяся на камни мостовой, успела сказать убийце: «Ergo quisquam me magis odit quam ego?»7 (Значит, кто-то ненавидит меня более, чем я сам?). Вот первый христианин в истории человечества, появившийся за шестьдесят лет до пришествия Христа.
Ответ Тиресия Лириопе звучит вполне ясно: «Человек живет, если не знает самого себя». Нарциссы же погибают. «Ego» обречено смерти. Как фасцинус (facinus на латыни – это сам акт, само преступление) притягивает взгляд человека, повергая его в эротическое оцепенение, так взгляд Нарцисса, обращенный на самого себя (sui), побуждает его к «самоубийству» (вот здесь-то fascinus и превращается в facinus). В римских изображениях Нарцисса отраженный образ – это деталь в самом низу фрески, иногда вовсе уходящая за ее край. У Нарциссов эпохи Возрождения отражение – это уже часть картины, весьма существенная для художника, – она занимает центр полотна. Отражение в произведении искусства всегда зачаровывает сильнее, чем сама модель, вдохновившая художника, ибо художественные произведения меньше соотносятся с жизнью и метаморфозой. Им ближе жесткая застылость красоты, их пронизывает застылость смерти. Существует какая-то часть, более возвышенная, нежели химеры рассудка, служащие источником искусства (менее возвышенным, на их взгляд), которая интегрирует животное начало, неотделимое от человека, и которая меньше подчинена взгляду, что отрывает его от него самого и отделяет от тела. Те, кто любит живопись, подозрительны. Жизнь себя не созерцает. То, что оживляет животность животного, то, что оживляет животность души, не дистанцируется от самого себя. Ego (я) жаждет отражения, раздела между внутренним и внешним, смерти того, что постоянно соотносит первое со вторым. Потому неведение, от которого мы не можем избавиться, нужно любить, как саму жизнь, которая возможна лишь в нем. Всякий человек, уверенный, что он «знает», отделен от своей головы, от изначальной случайности своего рождения. Всякий человек, уверенный, что он «знает», лишается головы; ее отрубают от тела. Его отрубленная голова остается в воде зеркала. То, что обрекает человека на зачарованность (на эротическое смятение), оберегает его в то же время от безумия.
Римские патрицианки расстались с зачарованностью. Римские патрицианки начали отделять себя от вечного течения бытия, различать желание и испуг, eros и pothos, соитие и любовь (деспотическое и пуританское опьянение, свойственное чувствам, принадлежит политике, но ни в коем случае не эросу). Любое чувство, в отличие от желания, утверждает власть одного человека над другим, подавляет другого, иными словами, порождает феодальное отношение (feodalis) и жажду успеха в социальной экономике, объединяющей родовую собственность и генеалогический наследственный капитал. Подобно тому как ставят экран перед очагом, мужчины в конце концов поставили заслон отвращения к жизни перед сладострастием, а затем и перед телесной наготой. Женщины же взяли на себя заботу о благочестии, о почитании мертвого бога со стыдливо прикрытыми чреслами, бога, чью жизнь его Отец принес в Жертву; по смерти они оставляли этот капитал храмам и уединенным виллам, передаваемым по наследству. И вот уже не Эней уносит на спине своего умирающего отца из горящей Трои, а Бог-Отец оборачивает благочестие против своего Сына, которого приносит в жертву, как последнего раба (servus). Христианство являет собой феномен колоссальной недвижимости – наследие, оставленное римскими патрицианками, разведенными, овдовевшими или лишившими наследства своих сыновей. Христианство – тот самый мертвый сын, которого матери несут на спине. Главная ненависть к желанию связана с этим детоубийственным или, по крайней мере пуританским стремлением, которое обеспечивало будущую жизнь и позволяло бесконечно приумножать это недвижимое достояние. Ни Ветхий, ни Новый Заветы никогда не проповедовали отказ от воспроизведения, завещание храму родовых поместий, социальный или антифискальный анахорез и taedium vitae.
Римская сексуальность была подавлена не волею императоров, не религией, не законами. Римская сексуальность самоуничтожилась. Ее место заняла сентиментальная любовь – странная связь, когда сама жертва становится палачом. Те, кто попал в это рабство, свыклись со своим бессилием и начали почитать свои цепи, как бога. Более того, они постарались стянуть их потуже. Они поспешили освятить и превознести зависимость женщины и облагородить эту рабскую зависимость с помощью торжественных церемоний, с целью умерить испуг, превратившийся в страх.
Новая, чиновничья знать расширила понятие зависимости, подчиненности. Как чиновник зависел от императора (princeps), так же и сознание зависимости между мужем и женой родило понятие взаимовыбора, которое реорганизовало, сделав внешне добровольной (то есть окрашенной любовным чувством) связь, прежде строившуюся на неравенстве и зависимости женщины от мужа. Отец знатного семейства, глава независимого рода, отказался от клановой борьбы и стал главой семьи императорского чиновника, слугой повелителя. От этого рабского подчинения другому недалеко и до самоподчинения. Так самосозерцание Нарцисса превратилось в самосъедение Беллерофонта.
Прежде нагота испытывала страх перед чужим взглядом. Затем она испытала страх под взглядом Бога. И наконец, она стала испытывать страх под собственным взглядом. Эти новые зависимости сломали прежние отношения между супругом, супругой и детьми. Тогда же инцест между матерью и сыном начал рассматриваться как преступление: он противоречил новым устоям супружеской жизни, он стал horror. Обычай, возбранявший римским матронам кормить грудью младенцев, вновь подвергся сомнению, – правда, женщины от него все-таки не отказались. Фаворин из Арля тщетно призывал матерей-христианок выкармливать своих детей. Желание перестало сопрягаться с рабством: рабы, проникшись новыми веяниями и недовольные насильственным обращением сверху, сами начали создавать секты и вступать в браки подобно свободным людям, В результате гомосексуализм, за отсутствием предложения, а потом и спроса, постепенно становится маргинальным, как любое явление, переставшее быть статусным. Забота о приличиях, подавление сексуальности, автаркия, самоограничение – вот понятия, которые, не будучи связаны между собой изначально, в конце концов объединились в нечто целостное. Стоицизм оказался настолько близок самодостаточности, что сексуальность стала выглядеть грубой, непристойной. Любовь к жене, детям, друзьям допускалась лишь в разумных пределах, если человек не мог совсем отказаться от них. Одна фраза из послания Павла к римлянам в 57 году вполне могла бы принадлежать стоику: «Melius est enim nubere quam uri» (Лучше жениться, нежели сгорать от желания).
Появились первые брачные договоры. Скоро в них начали включать статьи, согласно которым супруг обязывался не брать себе ни наложниц, ни pais. И хотя подобные документы не оформлялись официально, их можно назвать первыми брачными контрактами Запада.Так, император Марк Аврелий, последователь секты Эпикура, похвалялся в своих дневниках тем, что не притронулся к служанке по имени Бенедикта и даже к рабу (которого звали Теодо-том), несмотря на снедавшее его желание. Этот внутренний (уже почти психологический) самоконтроль выводит нас к теме subjectus и obsequens maritus. Сдержанность, послушание означают почти пассивность. Римляне времен Республики назвали бы такого супруга impudicus; по их мнению, это человек, попавший под иго Юноны Юги. Любовь genialis превращается в любовь conjugalis. Супружеская любовь – это миф, согласно которому покорность как следствие силы (obsequium как следствие virtus) становится психологической и религиозной (pietas и fides).
Таким образом, между эпохой Цицерона и веком Антонинов сексуальные и супружеские отношения претерпели изменения, совершенно независимо от какого бы то ни было христианского влияния. И метаморфоза эта произошла за сто или более лет до распространения новой религии. Христиане приписали себе заслугу новой строгой морали, которая на самом деле оформилась во времена Римской империи, при императоре Августе и его зяте Ти-берии.
Христиане причастны к изобретению христианской морали не более, чем к изобретению латинского языка: они просто приняли и то и другое, как будто это заповедал им Бог.
Сексуальная мораль полностью перестала быть вопросом статуса. Эта трансформация не повлекла за собой ни малейшего изменения в законах Империи по той простой причине, что они-то ее и породили. Эта эволюция не сопровождалась никакими переменами в идеологии и новой теологии империи, установленными Августом Агриппой, Меценатом, Горацием, Вергилием, – обе они были не только сохранены, но и укреплены ими. То был медленный, глубинный, естественный процесс под охраной страха. Однако человеческий страх не может ничего охранять, поскольку страх – это то что охраняет человека от желания. Поскольку страх ограждает себя от желания, он охраняет лишь бессилие или в крайнем случае ущербность, усугубляя боязнь. Иными словами, он охраняет «ничто», он охраняет «не-жизнь» – стыдливо прикрытые чресла тело, до такой степени отверженное, что оно стало мертвым и его навечно прибили гвоздями к кресту.