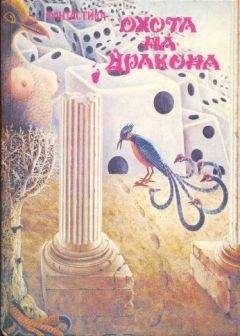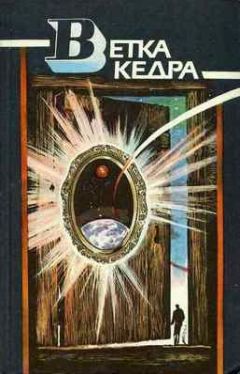Борис Давыдов - Московит
Пани Катарина Краливская, переносившая свалившиеся на нее невзгоды с достаточной твердостью (во всяком случае, лучше, чем можно было ожидать), тоже пребывала в тягостных раздумьях. Но по несколько другим причинам, нежели ее дочь.
Зрение и слух у почтенной пани были очень острыми. А долгие годы службы князю и княгине, сопряженные с необходимостью быть в курсе событий, которые так или иначе затрагивали всех женщин в замке (начиная с самой ясновельможной княгини Гризельды и заканчивая последней черной посудомойкой), научили пани Катарину и выдержке, и умению держать язык за зубами… Поэтому разговор двух служанок, донесшийся до ее ушей прошлым вечером, во-первых, взволновал до глубины души, во-вторых, заставил просто-напросто мучиться из-за невозможности тут же обсудить эту проблему с какой-нибудь пани. Не с мужем же говорить на такие темы и уж тем более не с дочкой – невинным ангелом!
Она вовсе не подслушивала, о нет! Просто, когда одна женщина за дверью почему-то говорит, понизив голос, почти шепотом, а дверь неплотно прикрыта… Едва ли найдется другая женщина, не навострившая слух! Чисто инстинктивно, разумеется.
– Ах, я так боюсь! Просто руки трясутся, как в лихорадке… – Пани Катарина безошибочно опознала по голосу Зосю – хохотушку с вечными бесенятами в глазах. Сколько ни ругай ее, сколько ни грози, втолковывая, что в замке его княжеской мосьци надо вести себя тише и благопристойнее, все напрасно! Что же могло так напугать покоевку? – А вдруг она и впрямь… Ой, Езус Мария! – Зося всхлипнула.
– Что тебе только в голову не взбредет! – сердитым шепотом откликнулась Стефания, почтенная женщина средних лет, по характеру и поведению – полная противоположность легкомысленной Зосе. Если бы не начавшее вдруг слабеть зрение, цены бы ей, как служанке, не было. – Подумаешь, московитянка! При чем тут «дьяблово отродье»?! Схизматики – тоже христиане, как тут ни крути, хоть и неправильно верующие. В том, что касаешься их, греха нет.
– Ах, да не в том дело!
– А в чем?
– Неужто сама не заметила?! У нее…
И тут Зося дрожащим голосом стала говорить о таких вещах, что пани Катарина сначала покраснела, потом задрожала, инстинктивно осенив себя крестным знамением…
– А вдруг это в самом деле дьяволовы знаки?! – всхлипывала покоевка. – И что делать теперь? Да я и на исповеди не посмею в том признаться-я-я…
Пани Катарина, неслышно ступая (ей это всегда хорошо удавалось, хоть весила она изрядно), попятилась прочь от комнаты, куда перенесли княжну Милославскую, лишившуюся чувств.
Услышанное настолько потрясло ее, что она даже не выговорила дочери, отлучившейся из комнаты. Собственно, пани Катарина и шла туда, чтобы проверить, как выполняется распоряжение ясновельможной княгини относительно ухода за несчастной княжной-московитянкой. Агнешка ведь совсем молодая, неопытная, да еще влюбилась, один пан Тадеуш на уме…
Теперь же не знаешь, что и думать!
Ну, почему, почему она сразу не расспросила покоевку! Вызвала бы из комнаты под каким-нибудь предлогом, отвела в сторонку… Так нет же, решила отложить допрос до утра. А утром Зося бесследно исчезла, точно корова языком слизнула! И вот теперь гадай, что за странные белые пятна на теле у московитянки померещились покоевке. Будто бы расположенные на груди и того хуже – на причинном месте…
Человек с аккуратно подстриженной белой бородой, обрамлявшей продолговатое бледное лицо, отложив перо, перечитал последние написанные строки:
«…Ведь отец твой, славный рыцарь и бесстрашный воин, верой и правдой служил отчизне, и ты сам, пане, поднимал саблю за Речь Посполитую, рискуя жизнью на поле боя. Отвага твоя и заслуги всем ведомы. Как же вышло так, что ныне ты снова обнажил оружие, но уже не в защиту любимого отечества нашего, а против него? Каким злым волшебством ты, прежде бившийся с врагами веры христианской, с нечестивыми турками и их подручными, ненасытными хищниками из Крыма, ныне пребываешь в союзе с ними и ведешь татар на землю нашу, ей на горе и слезы? Поистине, великая печаль овладевает мною при одной мысли об этом! Неужто твое сердце, пане, глухо к голосу разума, совести и долга христианского? Я молю Бога, чтобы оно смягчилось.
Да, мне хорошо известно, сколь велики и тяжки обиды и страдания, перенесенные паном по вине злобного и недалекого человека, коего молодой, неопытный пан Конецпольский[17] имел несчастье сделать правою своей рукою, назначив подстаростой Чигиринским[18]. Всей душою сочувствую пану и соболезную, а также всецело разделяю праведный твой гнев. Но опять же хочу спросить: чем провинилась отчизна наша, на которую обрушил ты мщение свое? Твой обидчик, виновник бед твоих – Чаплинский, с него и надо взыскивать! Ведаю, что пытался ты найти на него управу в столице и не добился своего, лишь вынес насмешки и унижения… О том тоже жалею и скорблю, ибо всякие подобные события марают честь и достоинство государства! Но подумай, ведь и куда более славным и известным мужам случалось терпеть поношения, неправедные суды, великие обиды и несправедливости… И что же? Разве винили они в бедах своих отчизну, разве призывали на борьбу с ней ее злейших врагов, разве терзали родную землю, заливая ее кровью? Ведь ты христианин, той же святой грецкой веры, что и я…»
Человек тяжело вздохнул. Нелегкая это задача – смирить льва, почуявшего запах крови!
После недолгого раздумья новые строчки стали ложиться на лист:
«А первейший долг христианина – верить, что все в мире происходит только по воле Его. И Он же, страдавший на кресте за весь род людской, каждого наградит и каждому воздаст. Коль случается так, что достойный терпит муки и незаслуженные обиды, – значит, в том есть какой-то Божий промысел, недоступный пониманию смертных. Ибо пути Господни неисповедимы. Подумай об этом, пане, обратись мыслями к Нему в смиренных молитвах, и сам тогда увидишь и поймешь, что избрал неверный путь, позволив обиде и гневу затмить свой разум! Да, в отечестве нашем, к великому сожалению, многое скверно. Многое надобно менять и улучшать. Но не таким же способом, который ты избрал, разжигая повсюду нетерпимую вражду, возбуждая дикие инстинкты неразумной черни и проливая кровь христианскую! Подумай и вот о чем: разъярить чернь легко, а успокоить – неизмеримо труднее. Ты рассылаешь повсюду универсалы, призывая ее к неповиновению панам своим, пуще того – к их истреблению; а что будешь с нею делать после? Как приведешь к повиновению? Если дикий зверь попробует вкус человечины, он так и будет упорно нападать на людей, пока его не убьют. Точно так же и тебе придется восстанавливать порядок и спокойствие ужасными мерами, пролив новые потоки крови, поистине подобные рекам.
Терпением, воззванием к разуму и смиренными просьбами можно гораздо скорее добиться и справедливости, и прекращения гонений на православную веру, и возврата тех привилеев, коих за бесчинства и мятежи было лишено Войско Запорожское десять лет тому назад. Ибо не все же члены сейма безрассудны и погрязли в распрях да интригах! Хвала Господу, среди них хватает вполне разумных, достойных панов. С ними и можно, и нужно договариваться.
Потому прошу тебя и заклинаю: отринь гнев свой, хоть тысячу раз и справедливый! Гнев, который, осмелюсь напомнить, есть смертный грех. Остановись, пока не поздно! Вложи меч в ножны и вступи в переговоры с сеймом. Чтобы славное имя Хмельницких могло и впредь произноситься в Речи Посполитой с уважением и гордостью.
Поступи так хотя бы из уважения к памяти безвременно скончавшегося короля нашего Владислава, который всегда благоволил и тебе, и всем Войску Запорожскому! Уверен: будь он жив, сам обратился бы к тебе с увещеванием, прося пощадить Отчизну».
Сенатор, воевода Киевский и Брацлавский, пан Адам Кисель одобрительно кивнул. Право же, получилось очень неплохо! Завтра же письмо будет отправлено Хмельницкому. Пусть все эти Потоцкие, Заславские, Вишневецкие галдят, топая ногами: «Никаких уступок зрадникам и бунтарям! Огнем их и мечом, другого языка они не понимают!» А вот посмотрим, кто окажется прав…
Глава 25
Хмельницкий, довольно улыбнувшись, отложил лист, исписанный четким убористым почерком.
– Добре, Иване! Ох, красиво написано! Какие слова подобрал, да как расставил – сам Цицерон, поди, похвалил бы. Мед с каждой строки так и стекает… Светлая у тебя голова! Переписывай набело да посылай хану.
– Всепокорнейше благодарю ясновельможного пана гетмана, – расплылся в улыбке генеральный писарь Выговский. – Право, его мосьц слишком высоко ценит скромные способности мои…
– Не возражай, коль говорю: «светлая», стало быть, такая и есть, – лукаво усмехнулся Богдан. – Ведь ежели бы не была светлой, снесли бы ее к бисовой матери под Желтыми Водами… Иль сохранили бы, выпади пану писарю дорога в Крым, с арканом на шее. Зачем татарам безголовый пленник, а? – И гетман громко, заливисто расхохотался.