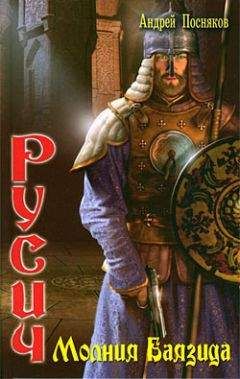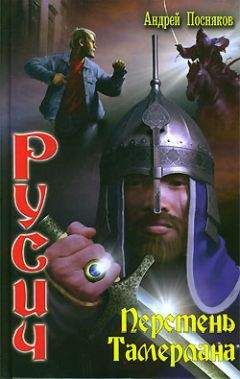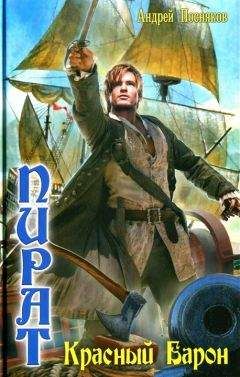Андрей Посняков - Шпион Тамерлана
Иван осторожно присоединил оструганную палку – гриф – к округлому ложу гудка. Вроде бы ничего, подходит. Казалось бы, экое дело – гудок, не скрипка и не электрогитара, однако ж тоже трепетного обращения требует. Каждой части – свое дерево соответствует, из того и делай. Гриф – из березы, филенка с деками – из предварительно вымоченной для гибкости осины, смычок-погудало – из пареной жимолости. Как просохнет инструмент, тогда уж натягивают на березовые колки струны, на погудало – конский волос, все смолой-живицей смазывается, просохнет и пожалуйста – играй на здоровье, или, на местном сленге, – «гуди гораздо»!
Отложив гриф, Раничев потянулся к кружке. Хоть и не любилась ему сикера, по вкусу напоминавшая ну очень уж сильно разбавленное пиво – так в советских ларьках не разбавляли! – а все ж лучше она, чем сыто – смесь воды и чуть-чуть меда. Ежели не успеет забродить мед – сыта обычная, так сказать, безалкогольная, если успеет – «пьяная», хотя, если разобраться хорошо, чего там пьяного-то? От силы градуса два… Ну два и восемь. В сикере и то побольше.
– За нас, Авдотий! – поднял кружку Иван. – За успех. Дай Бог, сладится все в Сороки.
Авдотий молча тряхнул рыжей всклокоченной бородой, осторожно взял кружку в лапищу – ух и силен же был, однако – недаром Клешней прозвали. Раничев и сам не слабый был, затеял как-то армреслинг с Авдотием – посрамлен был изрядно.
– Нет, не отдаст нам должок Мефодий. – Поставив кружку на стол, Авдотий припомнил прерванную мысль. – Хоть и спасли мы его людишек…
Иван кивнул, припомнил все в лицах, как спасали. День тогда еще обычный был, не постный. На Торгу, как обычно, шум-гам, тут и Мефодия-старца ребятушки – кто колпачки крутил бригадою, кто гадал на счастье, а кто и просто, используя одну только ловкость рук, освобождал, шныряя в толпе, законопослушных посадских от излишнего заныканного серебришка. Ну на рубль ни у кого из них не выходило, так, по мелочи больше работали – две-три деньги, редко десять, а в рубле-то их, как известно, двести. Но тоже ничего, бабки все же. Вот колпачники – те да, те и по рублю, бывало, зарабатывали, да не на всех, на рыло – каждому из пятерых или сколько их там в бригаде. День тогда для них удачный вышел – с утра уже на полтину купчишку катнули, видал Раничев эту полтину: брусок серебра сантиметров десять длиной и примерно полтора – шириной. Брусок в два раза больше длиной – это как раз рубль будет, тот самый, в котором ровно двести московских серебряных денег, или сто новгородских, они потяжелее московских будут. Так вот, купчина-то обидчивый оказался, аль надоумил кто, быстро сообразил – кинулся к страже: обманули, мол. И не к местным, на корню купленным стражам, подлюга такой, кинулся, а ко князя Василия Дмитриевича мимо проходившим дружинникам. Пообещал им, конечно, кое-что, не без этого. Ну а те и рады стараться – не предупреди Селуян с Иваном – как раз скоморошничали рядом, песни пели – сгребли бы всех колпачников да батогами, а то и похуже – головенки б с плеч на Кучковом поле! В общем-то бы и поделом, да ведь свято место пусто не бывает – другие б пришли, более алчные. Эти-то хоть давно крутят, да к клиентам какую-никакую жалость имеют, Иван раз сам был свидетелем – подошла к круталям женщина посадская, в убрусе темном, в шушуне, не бедна, видать, да ведь и не богата, пала на колени: «Христом-Богом прошу мужика мово и близко к шарикам этим не подпускайте, он же, гад, сына родного в закупы проиграл!» Переглянулись колпачники, отвели плачущую жену в сторону – ну говори, баба, как твой мужик выглядит? Та и сказала. С тех пор ведь горе у мужика – никто с ним не играет, разве что в кости, так и то больше на щелбаны, зато баба теперь все пирогами круталей подкармливает. Те ее гонят, не дай Бог, узнает про такое дело Мефодий – живо разгонит всю бригаду, не помилует, упырь известный.
– Так что не видать нам нашего рублика! – горестно покачал кудлатой головой Авдотий. – Не такой человек этот Мефодий, чтоб отдавать, ой, не такой.
– А то ты у него просил, – подначил Раничев.
– А и просить неча! Что я ему скажу-то?
– А так и скажи, мол, Афоня…тьфу…Мефодий, ты мне рубль должен… Два. Не отдаст, мыслишь?
– Тут и мыслить нечего.
– Вот упырь!
По крыльцу застучали оббивающие снег ноги. Авдотий с Раничевым переглянулись – либо вернулся ушедший с утра на торжище, как он сказал – «проветриться» – Селуян, либо – дед Ипатыч с Иванкой. Вернее – второе, уж больно тщательно оббивают ноги. Скрипнула дверь.
– А, – радостно вскочил с лавки Иван. – Наше вам, Тимофей, свет Ипатыч, купили струны? Иванко, когда гусли будем ладить?
– Да хоть сейчас! – Скинув тулупчик, Иванко приложил ладошки к печке, греться. Весь такой светленький, тоненький, глазастый, ну как есть сверчок! Ему б еще шортики, гольфики да красный галстук на шею – вылитый правофланговый пионер-тимуровец! За все берется, что ни попросишь. Вот и сейчас, отогрел ладошки, обернулся:
– Ась, деда Ипатыч? Дядько Иван просит гусли помочь сладить.
Старик обернулся, тряхнул седою бороденкой:
– Какие гусли-то хочешь, Иване? Яровчатые аль какие ины?
– Конечно, яровчатые! – Раничев оживился. – На иных уж больно струн многовато, заколебешься настраивать.
– Дядько Иване, а как гусли сделаем, меня играть научишь? – заканючил Иванко.
– Ты сперва сделай.
– Да сделаю… А что у вас тут в кружке, водичка?
Раничев незаметно подмигнул Авдотию:
– Водичка, водичка, пей, отроче.
Иванко приложился к кружке губами… и тут же выплюнул остатки сикеры на пол, закрестился:
– Прости, Господи, в пост-то!
Шмыгнув вздернутым носом, взглянул укоризненно на Ивана серыми блестящими глазами. Раничев даже ощутил мимолетный укор совести – вот ведь пес, подшутил над ребенком! Надо бы исправиться, как – ясно. Знал – любит Иванко про разных святых рассказывать.
– Слышь, отроче, тут Авдотий про Сорок Сороков спрашивал. Не знаю, что ему и сказать, а он ведь не отстает, все расскажи да расскажи, нашел, блин, Четьи-Минеи. Расскажешь ему, Иванко?
– Конечно, расскажу! Слушай, дядько Авдотий.
Авдотий поперхнулся сикерой и гулко закашлялся.
– Сорок мучеников, Кирион, Кандид, Домн и прочие, – вдохновенно начал Иванко, постановкой голоса и общей артикуляцией до смешного напомнив Раничеву принципиальную пионерку Зину из телефильма «Бронзовая птица». – В Севастии Армянской за исповедание веры были мучимы Лицинием, а после мучений – осуждены пробыть ночь в Севастийском озере, уже покрывшемся льдом. Утром же святые мученики были извлечены из озера и снова истязаемы: им разбивали ноги молотами, затем сожгли всех, а пепел и кости бросили в реку. Память о них особо чтится и доныне – в их день совершается литургия и облегчается пост. А еще…
– На-ко, отроче, держи колки, а я буду наматывать, – бесцеремонно перебил парня Ипатыч к вящей радости Авдотия. Потом дед с укоризной посмотрел на Ивана, но ничего не сказал, лишь покачал головой.
Устыдясь, Раничев вышел в сени – немного охладиться, заодно поискать – осталась ли еще в залавке сикера?
К вечеру явился Селуян. Усталый, изрядно замерзший, но тем не менее довольный.
– К гадалке ходили, – тихо шепнул он Ивану. – Я да колпачники. Гадалка сказала – удачный день будет на Сороках.
– Ну вот, – Раничев хлопнул напарника рукой по плечу. – А ты боялся! Теперь бы только гусли успеть сладить. Заготовки-то есть – остались колки, да струны натянуть. Тут и деда напрягать не буду, с Иванкой вдвоем управимся.
Как и предсказывала гадалка, утро 9 марта – Сороки – выдалось солнечным, тихим и в то же время – каким-то радостным, внушавшим вполне определенные надежды. Морозило, но ясно было – к обеду потеплеет, слишком уж сияющим было восходящее солнце, а небо – светло-голубым и высоким. На стрехах крыш чирикали нахохлившиеся от морозца воробьи, желтобрюхие синицы дрались на снегу из-за просыпанного кем-то овса, на росшей возле самой избы Ипатыча березе каркали вороны.
– Ишь, раскаркались, – возвращаясь в избу из уборной, неодобрительно посмотрел на них Селуян. Тяжело протопав по крыльцу, постоял немного у двери, подышал воздухом.
– Вставайте, люди добрые! – громко сказал он, войдя в горницу. – Инда с праздничком вас.
Раничев недовольно заворочался – поспать бы! – вчера опять просидели с дедом до ночи, доводили до ума гусли – зато те и вышли на загляденье, не стыдно в руки взять, а уж звук – густой, наливчатый, звонкий – любой музыкант позавидовал бы такому звуку!
Поднявшись с лавки, Иван любовно погладил гусли, не выдержав, тронул пальцами струны, тут же отозвавшиеся радостным перезвоном, пропел:
Вставайте, люди русские!
Поднялись уже все – Авдотий, Иванко, дед, – умываясь, заплескали в медном рукомойнике воду. Ипатыч быстро собрал на стол – кашу из проса, квашеную капусту, репу, горячий, заваренный на меду и пахучих травах сбитень. Ничего скоромного, хоть и послабление посту сегодня, а все ж пост, да не какой-нибудь, а предпасхальный, Великий.